Итак, моя милая, если случай столкнет тебя с этим человеком и ты увидишь, что чувство его не изменилось, не отталкивай его, он несчастлив в своем одиночестве, а нашему Эгону нужна мать. Если ты думаешь найти счастье с Гуго Мейером, то поступай, как подскажет тебе сердце, моя дорогая, а я из пространства благословляю вас и стану за обоих молиться. Не бойся, что дух мой будет испытывать ревность, нет, я знаю, что ты сохранишь навсегда ту долю любви, какую питаешь ко мне, я не умру в твоем воспоминании, пока наконец все мы не встретимся в ином мире. Что касается предрассудков, сословных и общественных, я знаю, они не повлияют на твои соображения, так как истинное благородство – это благородство души, которое доказывают делами, а не случайностью рождения, наделяющей иногда дворянскими титулами людей с грубой плебейской натурой».
Затем следовало уверение в любви, обращенное к Валерии, Раулю и Эгону, последнее «прости» к Рудольфу с женой и подпись.
Сильное, быстро нарастающее по мере чтения волнение охватило Валерию, в голове ее толпилось множество разнородных мыслей. Великодушие Рауля внушало ей восторженное благоговение, мысль о Гуго заставляла сильно биться сердце, а при воспоминании о страстном, хотя тотчас почти спрятанном взгляде, который она уловила в лесном павильоне, она вспыхнула.
Неторопливый стук в дверь нарушил странное душевное состояние. Весьма недовольная помехой, она сложила прочитанное письмо, поцеловала его и спрятала за корсаж.
– Отвори, это я! – послышался тревожный голос Антуанетты.
Валерия с удивлением открыла дверь, но, взглянув на бледное, изменившееся лицо графини, вскричала с испугом:
– Что с тобой? Не случилось ли что с Рудольфом или детьми?
– Ты не ошиблась, моя бедная Валерия, я действительно пришла сообщить тебе о несчастье, – отвечала графиня, стараясь говорить более спокойным голосом, – но не с моими детьми. Речь идет об Эгоне и Виоле.
– Они больны?
– Господь призвал их к себе!
Валерия вскрикнула и бессильно опустилась в кресло.
– Возможно ли? Может быть, это ложный слух? Кто тебе сказал?
– Рудольф. Он был у Вельдена и вернулся взволнованный.
Княгиня откинулась на спинку кресла и обхватила руками голову.
– Эгон, бедное дитя мое! Ум отказывается верить, как подумаешь, что еще в последнее воскресенье жизнерадостный он приходил прощаться с нами перед отъездом в Рюденгорф… И Виола тоже погибла. Это ужасно. Но как это случилось?
Графиня подсела к ней и отерла ей платком глаза.
– Соберись с силами и покорись воле Божьей. Я расскажу тебе подробности несчастья. Сегодня, когда Рудольф ехал в казармы, он был поражен необычайным стечением народа перед домом Вельдена. Плотная, взволнованная чем-то толпа любопытных ломилась в подъезд, и удивленный Рудольф сам вышел из кареты, чтобы узнать, что случилось. В прихожей, уже переполненной любопытными, швейцар сообщил ему о несчастье. Вчера дети с гувернанткой и гувернером катались по озеру, а на обратном пути их настиг сильный ветер и уже недалеко от берега сорвал шляпу с головы Эгона. Как всегда резвый и смелый, он с громким смехом свесился за борт, стараясь поймать шляпу. Сидевшая у руля м-ль Матильда и Тренберг, который греб, с ужасом бросились, чтобы его удержать, но лодка, которую и так сильно качало, тотчас перевернулась, и все упали в воду. Тренберг, один немного умевший плавать, напрасно пробовал спасти утопающих; рыбаки услыхали его крики, подобрали его себе на баржу и вытащили утонувших детей с гувернанткой, но слишком поздно, никакие старания не могли сохранить им жизнь. Бедный Тренберг, ошеломленный этим несчастьем, послал депешу банкиру, а затем велел перенести тела на железную дорогу и привез их в Пешт. Прибытие печального кортежа и собрало эту толпу зевак, которая с глупым упорством не расходится в течение нескольких часов.
Валерия слушала рассказ, застыв от ужаса и закрыв глаза.
– А он что? – прошептала она наконец.
– Его душевное состояние не поддается описанию. Хотя Рудольф и сам был ошеломлен случившимся, но прошел к нему и нашел его в таком состоянии, что испугался. «Бог не принимает моего раскаяния, – говорил он мужу. – Он отнял у меня то, что составляло цель и испытание моей жизни».
Рудольф всеми мерами старался утешить барона и не покинул его до тех пор, пока ему не удалось вывести его из оцепенения и заставить сделать надлежащие распоряжения.
– Пойдешь ты молиться за погибших? – спросила бледная Валерия.
– Я только что оттуда, – ответила графиня, глотая слезы. – Узнав о несчастье, я сочла своим долгом предупредить тебя, а Рудольф остался за меня дома у постельки нашей крошки, простуда которой нас крайне встревожила. Едучи к тебе, я остановилась у Мейера, но его там не видела, а Тренберг сказал мне, что он ушел в свои комнаты, окончательно разбитый новой печальной сценой: старушка, мать гувернантки, пришла за ее телом, и отчаяние несчастной, потерявшей в дочери свою единственную опору, было ужасно. Гуго утешил ее, взяв на себя издержки погребения, и назначил ей пожизненную пенсию.
– Я не велела беспокоить Мейера и одна прошла проститься с маленькими ангелами. Они будто спят, – заключила Антуанетта, заливаясь слезами.
Валерия выпрямилась. Она была бела, как пеньюар, глаза были сухи.
– Благодарю тебя, – сказала она, пожимая руку подруге, – что ты пришла сама ко мне, чтобы я от посторонних не услышала об этом несчастье. Теперь вернись домой, где твое присутствие нужнее, а меня не бойся оставить. Мне лучше остаться одной и собраться с мыслями, так как у меня голова идет кругом.
Потеря сына и другого ребенка Рауля, вместе с сочувствием к горю, поразившему Гуго, все это разразилось как громовой удар, и грудь сдавило, но слез, которые бы облегчили горе, не было.
Графиня с беспокойством взглянула на изменившиеся черты подруги и на неестественный блеск глаз, но не желала противоречить.
– До свиданья, дорогая. Да пошлет тебе Господь мир душевный, – сказала на прощание она, целуя Валерию. – Завтра утром я побываю у тебя и мы обсудим, нельзя ли устроить, чтобы ты простилась с Эгоном.
По уходу графини Валерия в лихорадочном волнении долго ходила по своему будуару. Затем, мало-помалу, она успокоилась, легла на диван и задумалась. Понятно, ей хотелось взглянуть в последний раз на Эгона, дать последний материнский поцелуй, которого всю жизнь был лишен похищенный ребенок, наконец, тайком поклониться и поплакать у его тела… Но как это сделать?
Ее размышления были потревожены появлением маленького Рауля, прибежавшего звать мать к обеду. Валерия страстно обняла свое сокровище, единственное оставшееся ей в утешение, и осыпала его поцелуями. Наконец, градом хлынули спасительные слезы и облегчили ее.
Испуганный ее волнением, мальчик замолк и прижался кудрявой головкой.
Несколько успокоенная, Валерия еще раз поцеловала сына и позвонила камеристке, приказав отнести в детскую уснувшего Рауля. Сказав, что обедать не будет, она снова легла на диван и задумалась.
Приход горничной, зажигавшей лампу в будуаре, вывел из раздумья Валерию. Она взглянула на часы, было почти девять, и она, спокойная и решительная, встала.
– Элиза, – обратилась она к камеристке, – могу ли я положиться на вашу преданность и скромность?
– Ах, княгиня, я одиннадцать лет служу вам, можете ли вы сомневаться во мне?
– Нет, я вам верю. Слушайте же меня. Дети банкира Вельдена утонули, и я бы хотела проститься с ними, но так, чтобы меня никто не увидел. Проводите меня до дома банкира и подождите у садовой калитки. Тела малюток, как предполагает графиня, лежат в большой зале, возле террасы, следовательно, я могу прийти и уйти незамеченной.
– Ах, ваша светлость, я понимаю, как вам тяжело, – с жаром сказала Элиза, целуя руку Валерии. – Я многое понимаю, да и Марта открыла мне свое преступление.
– Так как вы меня понимаете, Элиза, то я могу быть с вами откровенна. Позаботьтесь, чтобы никто не заметил ни моего ухода, ни возвращения; а теперь дайте мне манто и шляпу с густой вуалеткой и бегите нанять извозчика, я сейчас выйду.
Минут двадцать спустя Валерия толкнула калитку сада Вельдена, она оказалась открытой. Весь день тут ходили садовники и обойщики и забыли закрыть. С трепещущим сердцем пробиралась она темной аллеей, по которой проходила десять лет тому назад. Тогда она приходила требовать возврата свободы – теперь проститься с украденным ребенком. Как и прежде, в саду было тихо и пусто, и она беспрепятственно дошла до обширной террасы, где тогда, опершись на стол, сидел Самуил.
Теперь терраса была пуста, но из открытых настежь дверей тянулся слабый свет.
Нерешительным шагом поднялась она по ступеням, прошла полутемную комнату и остановилась наконец у входа в большую залу. Стены были обтянуты черным сукном, а посреди возвышался освещенный свечами и окруженный экзотическими растениями катафалк.
Очевидно, все оранжереи были опустошены, чтобы украсить и оживить последнее пребывание под этим кровом детей миллионера. Вся зала была обращена в сад; груды разных цветов были рассыпаны на ступенях катафалка и покрывали душистым саваном тела малюток.
Шатаясь от волнения, Валерия прислонилась к притолоке и не могла оторвать глаза от катафалка, на верхней ступени которого стоял человек, прислонив голову к подушке, на которой покоились дети. Все в фигуре Вельдена дышало мрачным отчаянием. Было ясно, как глубоко он любил детей, если их утрата до такой степени огорчила его.
Взволнованная чувством сострадания, Валерия подошла к катафалку, но Гуго, казалось, ничего не видел и не слышал. Лишь когда она слегка задела его плечо, он вздрогнул и поднял голову.
– Вы здесь, Валерия? – прошептал он, проводя рукой по своему бледному, взволнованному лицу. – О, осыпьте меня заслуженными упреками. Я не уберег вашего ребенка. Но видит Бог, я любил его, как своего собственного.
– Я пришла не укорять вас в несчастье, в котором вы не виноваты, а молиться и плакать с вами, – проговорила Валерия, опускаясь на колени и прижимая горячий лоб к холодным ручонкам Эгона.

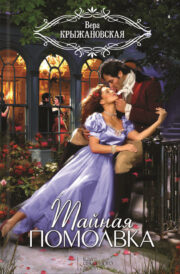
"Тайная помолвка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тайная помолвка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тайная помолвка" друзьям в соцсетях.