— Да.
— Кэтрин, поверьте, я вам сказал правду: это действительно ваша мать. Ваш отец, Мервин Кордер, каждый месяц ее навещает. Он просто счел необходимым все это от вас скрыть.
— Это меня не удивляет.
— Кэтрин, зато я приятно удивлен вашим спокойствием. Кстати, если бы вы меня попросили, я бы сам свозил вас в Уорстуисл. Вы бы тогда убедились, что я был бы вам там гораздо полезнее, чем Саймон Редверс.
У меня было минутное искушение сказать ему о моем письме к отцу, но я удержалась. Саймон сказал, что мы с ним вдвоем разгадаем эту таинственную загадку, и я не хотела никого посвящать в наш с ним договор.
К тому же у меня не было особой надежды получить от отца какое-нибудь радостное известие. Мне было уже ясно, что Кэтрин Кордер, томящаяся в Уорстуисле, была не кто иная, как моя мать.
— Может, как-нибудь я все-таки свожу вас туда, чтобы вы могли ее увидеть.
— Какой в этом смысл, если я ее никогда не знала?
— Но разве вы не хотите видеть свою родную мать?
— Она ведь меня все равно не узнает.
— Ну почему, у нее бывают моменты просветления, когда она начинает как-то осознавать, что происходит вокруг нее.
Меня передернуло, но я не собиралась признаваться ему в том, что даже мысль о том, чтобы снова оказаться в этом жутком месте приводила меня в ужас. У меня было странное суеверное предчувствие, что, если я снова переступлю его порог, я не смогу оттуда выйти. Если я ему это скажу, он выслушает с сочувствием, а потом скажет, что это еще одно проявление моего истерического состояния, порождающего «видения» и беспредметные страхи.
Не знаю почему, но я не могла быть с доктором Смитом столь же откровенной, как с Саймоном. Это скорее всего было еще одним доказательством того, что с последним меня связывало совершенно особое чувство. И потом, доктор Смит был уж очень готов списать все, чем я с ним делилась, на «мое состояние», поэтому ни ему, никому другому, кроме Саймона, я довериться больше не могла.
До Рождества оставалось всего три дня. Слуги украсили холл ветками остролиста, а кое-где повесили и омелу. Я слышала, как горничные хихикали и перешучивались с лакеями, прикрепляя ветки омелы в самых, по их мнению, подходящих местах[3]. Не заметив меня, даже наш степенный Уильям вдруг обхватил мою Мэри-Джейн за талию и запечатлел звонкий поцелуй на ее щеке, стоя под жемчужными ягодками омелы.
В один из этих дней я, наконец, получила письмо от отца. Я была в саду, когда появился почтальон. Я поджидала его там каждое утро, зная, что отец не заставит меня долго томиться в неведении.
И я оказалась права. На конверте, врученном мне, был его почерк. У меня безумно колотилось сердце, пока я поднималась к себе в комнату с письмом в руках, и, войдя к себе, прежде чем вскрыть конверт, я заперла дверь, чтобы мне никто не помешал.
«Моя дорогая Кэтрин,
Я был потрясен, получив твое письмо. Я понимаю твои чувства, и поэтому, прежде чем продолжить, я спешу уверить тебя, что Кэтрин Кордер, содержащаяся в Уорстуисле, — не твоя мать, хотя она и моя жена.
Поверь, что я собирался сказать тебе всю правду, когда ты выходила замуж, но я чувствовал, что я не могу этого сделать, не посоветовавшись с моим братом, которого все это непосредственно касается.
Моя жена и я очень любили друг друга, и через два года после нашей женитьбы у нас родилась дочь, которую мы назвали Кэтрин. Но это была не ты. Моя жена обожала девочку и почти ни на минуту не выпускала ее из виду. Хотя у ребенка, разумеется, была няня, моя жена большую часть времени проводила в детской и сама занималась дочкой. Наша няня пришла к нам с прекрасными рекомендациями, она очень привязалась к девочке и прекрасно о ней заботилась — но только не тогда, когда она была под воздействием выпитого тайком джина.
Однажды вечером, когда мы с женой возвращались из гостей, мы попали в сильный туман и сбились с дороги. Из-за этого мы добрались до дома на два часа позже, чем собирались, и когда мы наконец приехали, уже ничего нельзя было сделать. Няня, воспользовавшись нашим отсутствием, напилась допьяна и в таком состоянии решила искупать ребенка. Не соображая, что делает, она опустила девочку в ванну, наполненную кипятком. Нашим единственным утешением в этом ужасе могло быть лишь то, что смерть должна была быть почти мгновенной.
Моя дорогая Кэтрин, ты сама сейчас готовишься стать матерью и ты сможешь себе представить, какое страшное горе пережила моя жена. К тому же она винила себя за то, что оставила ребенка наедине с няней. Я горевал вместе с ней, но шло время, и ее отчаяние нисколько не уменьшалось. Она продолжала оплакивать дочь, и меня все сильнее тревожили ее обвинения в собственный адрес. Она бесцельно бродила по дому, то рыдая, то смеясь каким-то странным смехом. Но все равно я тогда еще не осознавал, что с ней сделала эта трагедия. Я повторял ей, что у нас будут еще дети, но это не утешало ее, и я понял, что нужно принять какие-то экстренные меры, чтобы ее успокоить. И тогда у твоего дяди Дика появилась смелая идея.
Я знаю, что ты всегда была очень к нему привязана. И он всегда о тебе очень заботился. Ты поймешь, как это естественно, когда узнаешь, кем он тебе приходится. Он твой отец, Кэтрин.
Мне очень трудно тебе все это объяснить. Мне жаль, что его нет сейчас в Англии и он не может сам тебе все рассказать. Он не был холостяком, каковым все его считали. Его жена — твоя мать — была француженкой. Он познакомился с ней во время продолжительной стоянки в Марселе. Она была родом из Прованса, и они поженились через несколько недель после своей первой встречи. Они были очень привязаны друг к другу, и оба очень переживали разлуку, когда твоему отцу приходилось уходить в плавание. Насколько я помню, к тому времени, когда ты должна была появиться на свет, Дик уже почти решил оставить море. Странно, но трагедия поразила обе наши семьи почти одновременно. Твоя мать умерла во время родов, а всего за два месяца до этого мы с женой потеряли своего ребенка.
Твой отец привез тебя к нам, потому что он хотел, чтобы у тебя был нормальный дом, и мы с ним оба надеялись тогда, что, заботясь о тебе, моя жена утешится в своем горе. Тебя даже звали так же — наша дочь была названа Кэтрин в честь своей матери, а Дик назвал тебя так, когда решил привезти тебя к нам…»
Я оторвалась от письма на несколько секунд. Все, о чем я прочитала, с удивительной ясностью отложилось в моем сознании, и разрозненные события, отрывочные воспоминания детства стали складываться в единую картину.
Первым моим чувством была радость оттого, что то, чего я боялась, оказалось неправдой. Потом я стала вспоминать прошлое, и мне показалось, что я ее помню — ту женщину с безумными глазами, которая так крепко сжимала меня в своих объятиях, что я плакала от страха и боли. Я стала думать о человеке, которого я знала как своего отца, который жил все эти годы, помня о том счастье, которое он когда-то делил с женщиной, все это время живущей взаперти в Уорстуисле… Теперь я знала, что по ночам ему снились кошмары, в которых он снова и снова терял дочь, а потом и жену, и что это ее он звал во сне — не такую, какой она была теперь, а какой он знал ее до трагедии.
Меня переполнила острая жалость к ним обоим, и я укорила себя за то, что так тяготилась домом, в котором выросла, и так стремилась из него убежать.
Я снова взяла письмо и начала читать дальше.
«Дик был уверен, что с нами тебе будет лучше, чем с ним, потому что он подолгу находился в плавании и не мог дать тебе той стабильности и того ощущения дома, которое необходимо ребенку — особенно если у него нет матери. Теперь, когда он овдовел, он уже не мог отказаться от моря — по его словам, на суше он страдал по умершей жене гораздо больше, чем когда был на своем корабле. И это было понятно. Поэтому мы решили позволить тебе считать своим отцом меня, хотя я не раз говорил Дику, что ты была бы гораздо счастливее, если бы знала, что ты его дочь. Ты ведь помнишь, насколько он всегда был предан твоим интересам. Он настоял на том, чтобы свое образование ты получила на родине твоей матери, и поэтому тебя послали учиться в Дижон. Но мы хотели, чтобы все считали тебя моим ребенком, потому что я был уверен, что моей жене так будет легче начать думать о тебе, как о своей дочери.
Если бы только все удалось, как мы надеялись! Первое время нам казалось, что все так и будет. Но удар, который она пережила, оказался слишком тяжелым для ее психики, и в конце концов ее пришлось поместить в лечебницу. После этого я переехал с тобой в Глен-хаус. Мне казалось, что мне будет легче, если я оставлю дом, в котором все это происходило. А кроме того, Глен-хаус был ближе к тому месту, где она теперь жила…»
Как я жалела, что не знала всего этого раньше! Может, я смогла бы как-то помочь ему, как-то его утешить.
Но прошлое было позади, а в настоящем я была счастлива тем, что в это декабрьское утро я разом избавилась от всех моих страхов. Теперь мне оставалось только узнать, кто был моим врагом среди обитателей этого дома, и я была так полна решимости этого добиться, что была совершенно уверена в успехе.
Мой ребенок должен был родиться ранней весной, и я знала, что меня никто с ним не разлучит. Весной же вернется домой и дядя Дик, то есть мой отец — хотя я вряд ли смогу его так называть. Он для меня скорее всего так и останется дядей Диком.
Я буду нянчить своего ребенка, и Саймон будет рядом, и наше чувство будет крепнуть и расцветать, пока не достигнет апогея, и тогда мы уже не захотим расстаться…
Да, я действительно чувствовала себя очень счастливой в этот день.
На следующей день я получила еще одно доказательство того, что судьба вдруг стала ко мне благосклонной. Произошло нечто, что еще больше подняло мое настроение.

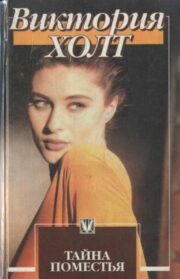
"Тайна поместья" отзывы
Отзывы читателей о книге "Тайна поместья". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Тайна поместья" друзьям в соцсетях.