— Мне кажется, Иисус имел в виду то же самое, говоря ученикам: Оставьте все, что у вас есть, и следуйте за мной. Так они и сделали: оставили несколько сетей и парочку жен. Петр, без сомнения, пошел вслед за Ним, и на этом фундаменте и построена Его Церковь, с ее богатством и мирской властью, золотой утварью, блудом и продажностью, жирными аббатами и тощими инквизиторами. Чем больше надежда, чем выше мы возносимся духом, тем печальней и глубже падение.
— Возможно, я ждала от Дэнди слишком многого. Возможно, матери моих школьных подружек были правы: «Стоит тебе уступить, — говорили они, — стоит мужчине добиться того, чего он хочет, и он перестает тебя уважать. Не думай, что он женится на тебе, этого не будет».
Старая мудрость тех времен, когда девушки хранили девственность до замужества и не тратили попусту жизнь, чтобы утолить любовную жажду — что может быть непрактичней? — и восхищались мужчинами, и хотели иметь от них детей как доказательство любви. Когда мужчины действительно дарили женам детей, а не просто избавлялись от спермы. Тогда мужчины на самом деле презирали девушек, которые с ними спали, которые не могли сдержать вожделение. Возможно, Дэнди все еще принадлежал старому миру, верил в старую мудрость. С такими девушками, как я, делят постель, какое-то время делят кров, но, разумеется, не женятся на них, и, уж конечно, не делятся с ними мыслями. А когда желание исчезало — с мужчинами это случается раньше, чем с женщинами, — что ж, пора было двигаться дальше и пригласить к обеду какую-нибудь добропорядочную, кокетливую, глупенькую девственницу. Понятно, речь шла о духовной девственности: в наши дни только сумасшедший будет настаивать на физической девственности.
Если это так, доктор Грегори, я ненавижу Дэнди Айвела от лица миллионов обиженных и отвергнутых девушек.
Он не возил меня в гости к родителям. Я не встречалась с его друзьями, он не выводил меня на люди, лишь изредка — Пит и Джо в ярости шептали что-то друг другу за соседним столиком — мы спускались в ресторан съесть бифштекс со спаржей. Я думала, он не хочет ни с кем меня делить, я думала, он хочет оставить мир снаружи, а меня — внутри; я думала, это мерило его любви, а не ее нехватки.
Он любил меня. Я знаю, что любил. Сперва это действительно было мерилом его любви. Только позднее, когда Джо и Пит, и его политические друзья взялись за Дэнди, то, что он держал меня в четырех стенах, превратилось в разумную и полезную меру.
— Мужчины любят держать женщин в четырех стенах. В миллионах миллионов пригородных домиков женщин все еще держат в их стенах любовь, верность и кружевные занавеси. Это не такая уж ужасная участь. Любая участь ужасна.
— В спальне Дэнди и я по-прежнему трудились в поте лица, со стонами взбираясь на гору любви, чей высочайший пик — мы знали это — сиял в божественном свете. В соседней комнате Джо и Пит читали финансовые отчеты и политическую хронику, играли в карты, курили, старались перещеголять друг друга в терпении — смотрели, кто Дольше продержит палец в пламени зажигалки — и пили минеральную воду. Глаза у них покраснели от дыма сигарет. Пальцы были в шрамах. Жабы в моих райских кущах, где, как я верила, я буду жить вечно.
— Я не знала, что они намерены сделать из Дэнди президента. Не думаю, что и он это знал. Скорее всего, они сказали ему об этом, когда между нами уже была связь. Вот почему он так вдруг переменился. Все твое, сказали они, посмотри вниз с Гефсиманского холма и правь всем миром, всем, что видишь на земле и на небе. Но, понятно, ты не можешь при этом иметь еще и ее. И любовь потерпела поражение, очень уж удачно они выбрали время. Новый, куда более важный интерес пересилил и заглушил боль разлуки. Неделей раньше, до того, как ослабело любовное наваждение, неделей позже, когда мы стали бы чувствовать себя достаточно обычными и добропорядочными людьми, чтобы вместе взглянуть в лицо свету, и, не сомневаюсь, Дэнди не променял бы меня на Америку.
Я знаю, что с незапамятных времен мужчины выбирали войну и оставляли женщин, домашний очаг и семью. И все же, думаю, я чуть не выиграла, и Дэнди был близок к мысли, что ради меня стоит поступиться всем миром. Время, судьба, игра случая и тайный сговор — все должно было вступить в союз, чтобы нас разлучить. Но так и произошло.
Дэнди больше не преклонялся предо мной. Да, он склонял колени, и это распаляло его, он хотел обладать мной, но он также хотел отвергнуть меня, показать, что обладание это — пустяк, ничего не стоит, что отпущенные им для меня чувства исчерпались.
Он глядел сквозь меня и поверх меня на владения, где его ждала истинная власть, я больше не ограничивала его королевства. Мир был больше, чем ему представлялось раньше. Я сидела на троне, но я не была настоящей королевой, занимающей его по праву рождения. Нет, я была самозванка. Я пустила в ход женские уловки, чтобы его завлечь, теперь настало время наказать меня. Другая королева должна занять этот трон.
«Я тебя люблю, — говорил он, — я тебя боготворю», но эти слова звучали все менее убедительно. Не было ни того, ни другого. Вместо этого он ворочал и тискал меня на кровати так и этак, тут вонзал зубы, там пускал в ход пальцы, пока я не вскрикивала от наслаждения и боли, и он мог использовать это, как улику против меня.
«Темпераментная куколка», — говорил Дэнди, и, хотя он просто подшучивал надо мной, эти слова ранили меня в самое сердце. Он отделял себя от меня; его отклик на зов плоти и мой, оказывается, разные вещи. Мы не были больше равны. Ему предстояло стать президентом; я существовала лишь благодаря его капризу: хорошенькая, ловкая, длинноногая, болтливая девчонка, которую ему ничего не стоило заставить замолчать, теперь, когда каприз стал угасать. Я больше не была источником любви; я была одной из множества доступных девиц, соблазн во плоти, который надо оттолкнуть от себя и превозмочь.
— Он склонялся предо мной и презирал меня, и не меньше презирал самого себя, потому что рука его невольно тянулась ко мне с лаской, словно тело сохранило верность, доброту и память, которых не было больше у рассудка. Но теперь он хотел быть лишь рассудком, лишь властью, лишь мощью, лишь энергией. И, если уж приходилось выбирать, он видел в женщинах воинскую награду, а не источник воинской силы. У солдат есть свой способ насиловать: они задирают женщине юбки на голову и завязывают их там; теперь она безликая, безголовая, просто тело, а не конкретный человек; ни жена, ни сестра, ни мать, ни дочь и, безусловно, ни она сама. Этого требовать было бы слишком много даже в мирное время! Она — кто угодно и принадлежит всем, а если за ней стоит очередь, тем лучше.
«Я люблю тебя», — говорил Дэнди, а все его помыслы были уже на президентстве. «Я тебя обожаю!» — и я чувствовала себя той женщиной, безликой, безглазой, знающей, что ее муж и ее сын в другом месте стоят в другой очереди, что мужчина добр и вежлив по отношению к женщине лишь настолько, насколько может себе позволить, и ни на йоту больше.
Но хотя Дэнди меня разлюбил, я по-прежнему любила его. За все, что тебе дорого, говорила я себе, приходится платить. Ничто не достается даром. И я платила.
Дэнди плохо выглядит, доктор Грегори. Когда возникает его лицо на экране телевизора, когда я гляжу в его глаза, я вижу там болезнь и печаль.
Да, конечно, нельзя глядеть в глаза того, кого видишь на экране. Начать с того, что камеры искажают картинку, которая превращается в невидимые волны, исчезающие, пока их не поймают на лету и не представят, в самом приблизительном виде — как фальшивый чек невежественному банкиру — в качестве подлинного образа. То, что я вижу, всего лишь туманная копия оригинала, но мне этого достаточно.
Да, вероятно, я вижу то, что хочу видеть. Какая-то частица меня хочет, чтобы он умер, сморщился как долгоножка, и засох в каком-нибудь пыльном углу. Я хочу, чтобы с ним было покончено раньше, чем со мной.
15
Только постепенно я осознала, что замкнутый мир, созданный Дэнди и мной для нашей любви, имеет оборотную сторону в материальной действительности. Я была фактически узницей, и по мере того, как пыл Дэнди угасал, меня все больше охватывал страх.
— Далеко внизу бежали машины. Блестящий купол Капитолия передразнивал Древний Рим; огромные золотые орлы, усевшись на медные насесты, издавали презрительный клекот. Перед Белым домом сверкающими складками повис государственный флаг. Искрясь рябью и белой пеной, спешил из города Потомак, прочь на восток, к далеким морям и моему родному дому в невообразимой дали.
К тому же я сделалась робкой. Я была такой отважной в постели, что, возможно, на это ушла вся моя смелость. Но мне и ни к чему было покидать гостиницу. Я никого не знала в Вашингтоне. Я представила в «Стар» свой отчет о полете «Конкорда», но они напечатали его, настолько все исказив, Причем без подписи, что, когда Дэнди показал мне его, я даже не сразу догадалась, что это моя статья.
Я еще раньше позвонила Корину, редактору отдела, и сказала, чтобы в ближайшее время он не ждал от меня известий, я отправляюсь в южные штаты собирать материал о возрождении ку-клукс-клана. Тогда междугородный телефон еще работал; но я и недели не прожила в гостинице, как он испортился. Звонить можно было только к нам. Время от времени приходили его чинить, но, похоже, после этого аппарат еще сильней разлаживался.
Поскольку мне некому было звонить, меня это не волновало. Офис Дэнди по-прежнему мог с ним связаться, оттуда звонили все чаще и чаще, и все чаще и чаще, поговорив по телефону, он уходил на час и больше, затем на вечер, а вскоре и на всю ночь. Сенат, как я выяснила, не заседал. У Дэнди были летние каникулы. По внутреннему телефону я звонить могла: к портье, в косметический кабинет, в плавательный бассейн.
У меня не было денег, но я могла брать что угодно за счет Дэнди в очень дорогом магазинчике женской одежды и книжном киоске в холле.

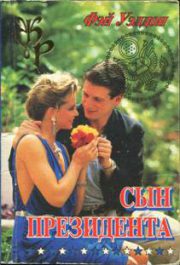
"Сын президента" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сын президента". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сын президента" друзьям в соцсетях.