Это было похоже на лихорадку; на совокупное безумие — считать, будто в глазах наших сияет душа, что мы сплетаемся в объятиях по велению духа, что наши стоны, прыжки и метания — есть проявление божественности, которая все заливает своим светом: моря, горы, небо. Возможно, Дэнди был прав; нам надо было просто сидеть рядышком и держаться за руки.
— Говорю вам, под конец, стоило ему коснуться моего мизинца, и все, мое тело сотрясали конвульсии; не только от желания, но и от его утоления.
— Естественно, у нас были неприятности и трудности. Гарри Максуэйн ходил взад-вперед по коридору восьмого этажа, пока не появились Джо и Пит и не впустили его в номер, а сами заняли более розовую из двух гостиных и так там и остались, играли в карты и курили. Я думала, они его друзья. Я думала: чему удивляться, Дэнди — американец, я не знакома с их культурой. К тому же он политик, это, верно, тоже меняет дело. Ему надо время от времени выходить отсюда, выступить с речью или принять участие в голосовании.
— Я думала, что Дэнди очень, очень умный. Я думала, что он к тому же честный. Меня это поражало. В конце концов, я — журналистка, а журналисты не очень высокого мнения о политических деятелях. И не потому, что журналистам удается познакомиться с ними поближе, чем остальным людям, а потому, что в силу своей профессии они тоже смотрят на мир и его страдания, как на пищу для собственной карьеры. Они не способны, в своем большинстве, понять, что такое идеализм, или гуманизм, или искреннее стремление служить обществу, да что там — просто горячее желание сделать мир лучше. Если бы они подозревали, что такая вещь существует на свете, они бы вонзили нож в яблоко до самой сердцевины и до тех пор крутили бы его, кроша белую чистую мякоть, пока не добрались бы до червя.
Думаю, я ставила Дэнди в тупик. Я вела себя иначе, чем привычные ему девицы. Я не была ни потаскушка, ни леди. Я ничего не просила ни денег, ни мехов, ни заверений, ни обещаний. Я не жаловалась. Я была иностранка. Он ничего обо мне не знал: просто женщина, тело и душа, но без меня ему было мучительно больно, а я теряла сознание и силы без него.
— Но не могла же я жить там до скончания века, верно?
13
Пит проверил все ее знакомства и связи. Конечно, это было все равно, что запирать дверь конюшни после того, как лошадь убежала, но все же лучше, чем сидеть сложа руки, прислушиваясь к звукам в соседней комнате, чувствуя, как с каждым скрипом кровати развеиваются как дым все надежды и потенциальные возможности их Комитета.
Почти все время он и сам не отказался бы быть на месте Дэнди; ему было стыдно взглянуть Джо в глаза. Они шлепали картами по столу и старались рассматривать случившееся в широком контексте.
Гарри Максуэйн, сидя в здании Эванса, читал им куски из «Песни песней»; казалось, его все это не очень тревожит. Джо пытался ему объяснить:
— С матерью все в порядке. Она живет в песчаном карьере в Западной Австралии с несколькими шелудивыми клячами. Но от отца можно ждать беды. Мы начинаем собирать на него материал. Сама девчонка — мелкотравчатая журналистка из третьесортной газетки. Но она путалась с Джерри Гримблом; алкоголик, годится ей в отцы. Когда-то он был на коне, был связан со многими людьми, с левыми — самыми крупными шишками. Мне все это не нравится, сэр. Честно. Не исключено, что ее подослали к нему. Агент.
«Доколе день дышит прохладою и убегают тени, — проговорил Гарри Максуэй, — пойду я на гору мирровую и на холм фимиама»[4].
— Паранойя, — сердито сказал Дэнди, когда они поделились с ним своими соображениями; глаза его покраснели от любовных утех и недосыпа. — Вы, голубчики, просто беситесь от безделья. Почему бы вам не отправиться домой, к женам, они помогут вам выпустить пары. А пока что убирайтесь отсюда к чертовой матери.
— Агенты иностранных сверхдержав не ездят без гребенок, — добавил Дэнди, — с ненаманикюренными ногтями на ногах.
Пит и Джо воздержались от ответа, что, возможно, они именно так и делают, если знают его вкусы.
Под мощным воздействием сексуальной и романтической энергии Гарри Максуэйн бросил Библию и перешел на Теннисона. Прочитал им строчки из «Мод»:
Пусть проснется во мне другой человек —
И пусть тот, кем я был, исчезнет навек![5]
— Сэр, ее отец жил с малайкой! Сочувствовал коммунистам еще со времен второй мировой войны. Политически активен, сэр. Сейчас проживает в Сайгоне, сэр.
Ей подобных на свете нет —
И не будет во веки веков…
разливался словами Гарри Максуэйн.
Как многие политики, он был несостоявшийся писатель. В юности он вычел пять лет из своей карьеры, пытаясь стать поэтом, и потерпел неудачу. Он столкнулся с неодобрением родителей и общества и был глубоко уязвлен. Но они были правы. Он человек действия, а не слов. Однако теперь, когда наступали трудные времена, предстояло важное дело, и Максуэйн чувствовал, что он никнет под грузом ответственности, он читал Библию или Теннисона, черпая покой и твердость духа в красоте языка и испытывая душевный восторг от чувствительности викторианцев.
Солнце зашло за Потомаком; длинная аллея пересекала газон и упиралась в могилы Кеннеди, вокруг которых все еще собирались верные их памяти; они склоняли головы под темным покровом, перебирали четки и шаркали ногами, бормоча вполголоса молитвы о прощении, благословении и мире. Как бы он хотел, чтобы Теннисон был сейчас жив.
— Сэр, — сказали Пит и Джо, — это надо пресечь. Как знать, возможно, она все фотографирует и записывает на ленту.
«Королева цветов, приходи поскорей,
— начал Гарри Максуэйн, —
Я томлюсь нетерпеньем, я жду;
Ты роскошнее роз и нежнее лилей,
Ты затмишь красотою звезду;
В жемчугах и шелках, в ореоле кудрей
Будь как солнце в волшебном саду!»
— Сэр, — сказали Пит и Джо, — вы же ее видели. Какие тут розы и лилеи? Какой еще там аре… или ари… Кого она затмит красотой?
— Дэнди считает, что кого угодно затмит, — сказал Гарри Максуэйн.
— Сэр, — сказали Пит и Джо, — вы можете представить ее в Белом доме? Можете представить ее в качестве Первой Леди?
— Кто говорит о браке? — спросил Гарри.
— Дэнди, — сказал Пит.
— Я побеседую с ним, — сказал Гарри, откладывая книгу.
14
Переход от этого состояния благодати — от любви к отсутствию любви, от доверия к страху был быстрым. Стоит закрасться сомнению, доктор Грегори, и все здание — твоя вера в себя — тут же рассыплется до основания. То, что ты считала замком, построенным на вечные времена, с башенками, стягами и трубными звуками, откуда взгляду открывается прекрасный вид до самого горизонта, оказывается горкой песка на морском берегу, детской фантазией, всего лишь не новым в природе опытом, конечная цель которого — разрушение. Стоит первой волне проникнуть в крепостной ров и устремиться вперед, окружая замок, до конца — один шаг. Скоро берег снова станет плоским, и отлив, идя на убыль, оставит позади лишь гладкий пляж. И все же замок стоял там, — само великолепие, доктор Грегори. Я не могу поверить, что берег ничуть не изменился. Я не хочу этому верить.
— Почему он перестал меня любить? Вы можете мне это объяснить? Мне легче понять, почему кто-то кого-то полюбил, чем почему кто-то кого-то разлюбил. Безумие понятней благоразумия. В том ли дело, что постепенно верх берет здравый смысл, желание сделать то, что советуют друзья и родные, и заслужить их похвалу, быть тем, чем они советуют быть, или в том, что тело, душа и ум просто не в силах долго выдержать такой накал, такое слияние воедино, превращение в общий сплав, и вновь должны распасться на привычные составные части, которые можно держать под контролем?
Когда-то давно я баловалась ЛСД. Передо мной расстилалась вся Вселенная, и я сама была Вселенной, на пользу или во вред, большей частью во вред, но поверьте, когда ты влюблен, это совсем другое. Мне нечего было волноваться о нравственности. Я была сама нравственность.
Я не принимала противозачаточных пилюль, доктор Грегори. У меня не было спирали. Правда, у меня был колпачок, но он остался в Эдинбурге на грязной полочке в ванной довольно сомнительной гостиницы. Как бы то ни было, я никогда не любила им пользоваться. Полагаю, Джо и Питу и в голову не приходило, что я не предохранялась, как они называют это. Такие девушки, как я, — другими словами, согласно их классификации, испорченные девушки, видали виды и знают, что к чему.
Что вам сказать? То ли я была не так испорчена, как они думали, то ли предпочла забыть то, что знала, — второе куда ближе к истине. Я хотела ребенка от Дэнди, хотела страстно. Я хотела иметь реальное, плоть от плоти, кровь от крови, растущее, думающее, сознательное свидетельство и доказательство нашей любви. Я хотела иметь физическое воплощение духовной истины. Ведь этим-то и должен быть ребенок — хотя так редко бывает, — творением мужчины и женщины, их противоположной природы, соединившихся, пусть временно, и не без участия Всевышнего, в изумительном, головокружительном танце страсти и любви. Не просто повторение скучающей женщины, которая хочет заполнить пустое место в комнате и иметь цель существования, желательно очень на нее похожее, кроткое, послушное, у нее на поводу, но нечто новое, отличное от нее, способное подтолкнуть весь мир чуть-чуть вперед.
— Я любила Дэнди, другими словами, я хотела от него ребенка.
Я была готова отказаться от всего, что имела, ради нашей любви. А все, что я имела, естественно, было мое прошлое и мое будущее. У меня не было имущества, я не занимала особого места в обществе. Я полагала, я ждала, что Дэнди поступит так же. Что в переплетении наших тел была магия, которая заставит его тоже отказаться от всего.

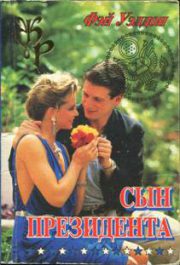
"Сын президента" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сын президента". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сын президента" друзьям в соцсетях.