На следующий день, 2 июля, несмотря на ужасные погодные условия, маршал в присутствии короля дал сражение у деревни Лауфельд, где укрепились войска герцога Камберлендского. Хоть и была почти самая середина лета, небо низвергало на землю непрекращающиеся потоки воды, которые тут же превращали любую дорогу в вязкую топь, а каждое поле—в самое настоящее болото. Продвигаться вперед было практически невозможно.
— Что ж, дорогой друг, каковы твои прогнозы? — спросил маршал у маркиза де Вальфона. — Мы дурно начали, а вот враг держится очень даже неплохо.
— Подумайте сами, господин маршал, — отвечал тот с улыбкой, находясь в хорошем расположении духа, — при Фонтенуа вы были едва ли не при смерти, но вы их победили. При Рокуре вам уже было намного лучше, и вы вновь одержали верх. А что сейчас? Сейчас вы в добром здравии, — как не нанести врагу сокрушающий удар!
— Пожалуй, мне стоит счесть ваши слова пророческими!
Понадобилось провести четыре атаки, чтобы захватить Лауфельд, но герцог Камберлендский не унимался и с неистовой яростью бросал в сражение все новые и новые войска. Забыв о своем чине, маршал вновь почувствовал себя молодым Морицем из прошлого и, выхватив шпагу, сам возглавил атаку своей кавалерии, подбадривая солдат криками:
— В бой, друзья мои!
Боевой порядок войск герцога Камберлендского был разрушен, и он отдал приказ об отступлении. Приказ, правда, больше походил на вопль «спасайся, кто может!» Победа была одержана, и Мориц, проскакав галопом перед войсками, посвятил ее Людовику XV. Этим же вечером король написал сыну: «Сын мой, сегодня мы одержали большую победу, и сегодня наш маршал был велик, как никогда ранее. Я отчаянно прошу вас не петь ему дифирамбов по этому поводу, лучше попросите госпожу дофину укорить его — слишком сильной опасности он себя подверг во время боя...»
Английская армия была разбита наголову и практически уничтожена, но вот австрийские войска хлынули в Маастрихт. Теперь у Морица не оставалось выбора, кроме как осадить город. И эта осада могла продлиться долго.
Через несколько дней после сражения при Лауфельде на юге страны маршал фон Левендаль осадил крепость Берген-оп-Зоом, морские ворота Голландии. К несчастью, он, в отличие от маршала Саксонского, позволил своим солдатам поживиться в этом богатом городе. Что, конечно же, не могло не вызвать недовольства. Больше всех, само собой, негодовал принц де Конти и его сторонники, которые, зная о дружеских отношениях Морица и графа фон Левендаля, беззастенчиво списывали грехи последнего на маршала Саксонского. Впрочем, это мало волновало Морица, которого король обещал после завершения кампании назначить генерал-губернатором Нидерландов.
Гораздо сильнее, почти до боли в груди, волновало его совсем другое — он боялся, что по возвращении из Лауфельда в Тонгрен не получит ответа от своей возлюбленной. И вот, вернувшись, он действительно ничего не обнаружил! Ни единого слова! Кроме того, в глаза сразу бросилось отсутствие ее имени в театральной афише. Он тут же потребовал объяснений у Шарля Фавара.
— Куда пропала мадемуазель Шантийи?
Тот, не забывая о том, что маршал практически полностью содержит его семью, тут же придал своему лицу расстроенный вид. Впрочем, ни беспокойства, ни волнения на нем не читалось:
— К моему глубочайшему сожалению, она покинула Тонгрен, господин маршал. Я как раз собирался сообщить вам об этом, когда вы меня позвали...
— Покинула? Но зачем? Почему?
— Позвольте мне ответить сначала на второй вопрос. Потому что ей нездоровилось. Без сомнения, подхватила простуду, бедняжка.
— Простуду? Где можно простудиться летом?
— Да какое уж тут лето, господин маршал. Льет, не переставая. А у Жюстины слабое горло. Сначала она все жаловалась на усталость, потом начался кашель, поднялась температура, и в какой-то момент я даже забеспокоился — а не серьезно ли это? А ведь здесь у нас только военные врачи... Ей просто необходима консультация хорошего доктора, вот я и отправил ее вместе с камеристкой в Брюссель, там есть один хороший врач. Он еще лечит герцогиню де Шеврёз. Эта госпожа всегда хорошо относилась к моей супруге, и я смею надеяться, что Жюстина скоро поправится...
— И она до сих пор в Брюсселе?
— Она... да, конечно, я полагаю. Где же ей еще быть?
— Да кто их знает, этих женщин! Что же, придется нам ждать новостей и надеяться, что они нас не опечалят, а наша звезда в скором времени вернется обратно. Мы одержали великую победу, и нам есть что отпраздновать. Солдаты будут счастливы вновь послушать ее прекрасное пение. Так что будьте так добры, держите меня в курсе происходящего.
Фавар вышел, облегченно вздохнув. Он был уверен, что ему удалось ловко обмануть маршала. Если тому вздумается отправить послание Жюстине, она сама разберется, какой линии поведения надо придерживаться в дальнейшем. Но что его действительно поразило, так это то, что Мориц сразу догадался, что в Брюсселе она была лишь проездом и задержалась в этом городе всего на пару дней, а потом уехала, не сообщив, в каком направлении. Другими словами, она сбежала.
Новость глубоко ранила Морица. Письмо, на которое он возлагал столько надежд, не принесло ровным счетом никаких результатов. Точнее, никаких положительных результатов. Он надеялся, что, прочитав это послание, актриса падет в его объятия, но этого не произошло, а она попросту улизнула. По-видимому, любовь, которую он к ней испытывал, не нашла никакого отклика в сердце мадемуазель Шантийи. Она попросту пренебрегла его чувствами, и для маршала это было непривычно — женщин вокруг него всегда было хоть отбавляй, и ему стоило лишь протянуть руку, чтобы заполучить любую из них. Еще никогда ему не приходилось получать отказа. Более того, никто и никогда не сбегал от него так, как это сделала Жюстина. К жестокому разочарованию, которое он испытывал, примешивалось еще и горечь от того, что, как ему казалось, над ним попросту решили посмеяться.
Фавар, казалось, совершенно не был обеспокоен исчезновением своей супруги. Он продолжал заниматься театром, как будто все шло наилучшим образом в этом лучшем из миров. Мориц полагал, что она вернулась в Париж, в их апартаменты на улице Ришелье, куда он уже посылал за ней, но безрезультатно. И когда он снова спросил Шарля Фавара, нет ли известий о Жюстине, тот ответил, что мадам Фавар всегда была склонна к подобным шалостям и тайным побегам и сейчас она наверняка отдыхает где-нибудь на лоне природы в тихом местечке, ведь она так устала от постоянного нервного напряжения на сцене военного театра.
— Как вы можете быть таким спокойным и заниматься делами, не зная, где находится ваша супруга?
— Господин маршал, — ответил Фавар со всем уважением, на которое был способен, — дело в том, что я целиком и полностью доверяю своей жене — она ни разу меня не обманывала. По правде говоря, она мне сообщила, что в Париже она чувствует себя еще более утомленной, поэтому собирается немного погостить у одной подруги в провинции...
— У какой подруги? И в какой провинции?
— Этого она не сказала, да и какая разница, ведь отдых только пойдет ей на пользу. Она пришлет о себе весточку позже, и, когда ей станет лучше, она ко мне вернется. Возможно, такому важному господину, как вы, наши отношения с Жюстиной могут показаться странными, но мы с женой простые люди, а вы наш благодетель...
— Сейчас я уже жалею об этом! Достаточно притворства! Говорите прямо: Жюстина и впрямь больна или я настолько ее пугаю, что она не хочет меня видеть?
— Как вы могли такое подумать! Она так дорожит вами, так ценит, и решила — может быть, с ее стороны это слишком дерзко, — что это взаимно и что вы, беспокоясь о ней, поймете, как ей необходимо сейчас немного передохнуть.
В ответ маршал лишь мрачно взглянул на Фавара.
— Передохнуть, значит, вот как? А что мне от ее отдыха? Ничего! Поэтому делайте, что хотите, но пусть она возвращается. Военный театр без нее совсем не тот.
— Господин маршал, это совершенно несправедливо! У нас прекрасная труппа, очаровательные актрисы! Их ценят и любят все... кажется, даже вы сами.
— Прекрасная труппа? Мадемуазель Боменар вернулась в Париж, мадемуазель Наварр вновь воспылала чувствами к своему маркизу де Мирабо и уехала за ним в надежде выйти замуж, глупышка! Между прочим, я скоро возвращаюсь в Брюссель, и театр тоже! Так что позаботьтесь о том, чтобы в труппе были приличные исполнители! И прежде всего мадемуазель Шантийи!
Вернувшись к себе в палатку, обставленную по-военному и в то же время с не меньшим изяществом, чем его особняк в Париже или замок Пипль, Мориц обнаружил в ней своего племянника, нервно расхаживающего из угла в угол. Генрих, сын его друзей Генриха-Фридриха фон Фризена и Констанции фон Фризен, приехал в Париж вместе с дофиной. Сейчас он стал приятным юношей, в голове у которого были лишь бои и сражения. Он с воодушевлением и восторгом относился к должности адъютанта у своего именитого дяди. И самое удивительное, что ему единственному удавалось почти постоянно поддерживать у маршала хорошее настроение и веселить его, если тот погружался в мрачные раздумья. Одной из любимых тем были его рассказы о Дрездене, о родителях и многочисленных общих знакомых.
— С чего вдруг ты так суетишься? — проворчал маршал. — Ничего не случилось, я надеюсь?
— Со мной-то нет, а вот с вами — да. Тут у нас две дамы, которые ждут не дождутся, чтобы я их представил вам.
— Дамы? Что еще за дамы?
— Должен заметить, одна из них совершенно обычная, ничего примечательного. А вторая... такая красавица, каких я еще не видывал! Первая утверждает, что вы знакомы и что ее муж занимается поставками для армии. А еще она постоянно говорит о какой-то Женевьеве, своей старшей дочери...
Мориц рассмеялся, что было поистине чудом, учитывая состояние, в котором он находился.

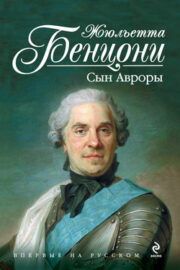
"Сын Авроры" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сын Авроры". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сын Авроры" друзьям в соцсетях.