Она отрицательно покачала головой. Потом долго смотрела в проем раскрытых ворот, где исчезла высокая фигура русского витязя. Что бы ее ждало на Руси? Да и Ипатия не предашь…
Когда княжна вышла из ворот, первым увидела именно его. И побежала к нему, прижалась. Патрикий обнял ее, стал гладить по разметавшимся волосам, пытался успокоить, хотя, судя по его дрожащему голосу, надо было успокаивать не княжну, а его самого. Ипатий с укоризной сказал Силе, что тот, мол, не уследил за хозяйкой и виноват, что она оказалась в плену. Сила только хмыкнул. Ну ведь не оставил же ее в беде! Светораде бы умиляться преданности древлянина, но она не сбрасывала со счетов и то, что жизнь в богатой цивилизованной Византии для славянского раба имела свои преимущества.
А потом Светорада почувствовала, как обнимавшие ее руки Ипатия неожиданно напряглись. Он смотрел куда– то через ее плечо. И, оглянувшись, княжна поняла, что он увидел вышедшего из ворот пустого дворца сына.
Однако Варда прошел мимо отца, даже не взглянув на него, и направился к крытым носилкам, откуда ему махал пухлой рукой Зенон. Однако Варда не сел к Зенону, хотя тот и настаивал. Между тем к ним подошел Агир, высокий, важный, и почти обнял Варду. И только после того как Варда удалился, Агир приблизился к Ипатию и Светораде.
– Рад вашему освобождению, любезная Ксантия. Ну и прыть, я скажу, у этих скифов! Дерзости их нет предела, видит Бог. Но, Пречистая Дева, как же так вышло, что вы оказались их пленницей?
Спрашивает вроде любезно, но в глазах таится что– то колючее. Немудрено, что они не очень– то и волновались за нее, пока среди пленников не оказался Варда Малеил.
Светорада стала объяснять, что ходила в предместье с Дорофеей, что они случайно оказались на пути взбунтовавшихся славян. Но осеклась и, поглядев в потемневшие страдающие глаза Ипатия, сказала:
– Я убедилась, что твой сын и впрямь ненавидит меня, но самим Иисусом Христом умоляю: что бы он ни говорил про меня – не верь его словам и наветам. Я чиста перед тобой!
Она знала, как для Ипатия важны ее чистота, ее верность. Видимо, он многое передумал за время ее пребывания во дворце Святого Маманта среди людей с Руси. Знал ведь, что в душе княжна так и осталась русской. Ну и потом, столько мужчин было рядом с его красавицей княжной… Однако слова Светорады, блеск в ее глазах успокоили его. Он перевел дыхание, вновь обнял ее.
– Я верю тебе, моя янтарная девочка. – И шепнул совсем тихо: – Но я опасался, что ты оставишь меня и уйдешь с ними.
А ей вдруг стало так тоскливо от его слов.
Дома Дорофея просто кинулась своей госпоже на шею.
– Ночи и дни с колен не вставала, молила за вас Пречистую!
Светорада искренне растрогалась. Надо же, ее ворчунья Дорофея – и такая преданность. Нет, все– таки ее дом уже здесь, в Константинополе.
Сила, поев и переодевшись, куда– то ушел. Вернулся поздно, мрачный, подавленный. Разыскал хозяйку, которая успела привести себя в порядок и теперь чинно сидела с вышиванием, слушая читавшую ей из псалтыря Дорофею. Сила молча ждал, пока наставница окончит, но не дождался и, перебив чтицу, сказал по– русски:
– Наши ушли, их выпустили из Золотого Рога, но за ними вскоре отправили несколько больших дромонов.
Дорофея недоуменно переводила взгляд со Светорады на Силу, потом как ни в чем не бывало, продолжила чтение.
Через несколько дней Сила разузнал для хозяйки еще одну новость: боевые корабли ромеев пожгли уходящие русские суда греческим огнем. Только паре из них удалось избежать гибели и уйти на Русь.
Глава 5
В великой константинопольской Софии шло торжественное богослужение.
– Паки и паки миром Господу помолимся! – высоким сильным голосом выводил молодой архидиакон.
– Господи, помилуй! – привычно отзывались певчие.
Службу проводил с соизволения патриарха Николая архиепископ Кесарии Капподакийской Арефа.
– Яко Твое есть царствие, и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веко– о– в! – раздавался под сводами его голос.
Патриарх Николай, находясь в реликварии,[73] следил за Арефой. Усмехнулся пренебрежительно в бороду. Такая улыбочка не совсем шла владыке константинопольской церкви, ибо разрушала созданный им образ достойного и мудрого служителя Господа, однако сейчас его никто не мог видеть. Никто, кроме императорского спальника Феофилакта Заутца, смиренно стоявшего неподалеку от владыки. Но этот возвеличенный по протекции Николая дальний родственник императора немного значил, по мнению патриарха: сегодня возвышен, завтра – брошен в подземелье. Обычное дело. Особенно если учесть, как при дворе относились к семье Заутца.[74]
Тем не менее сейчас Феофилакт был одним из доверенных лиц патриарха. Тайных доверенных, так как о его связи с владыкой константинопольской церкви мало кто знал.
– Святейшество, – постарался привлечь внимание патриарха Феофилакт, но Николай резко поднял руку, заставляя того умолкнуть. Вслушивался в слова службы, полуприкрыв глаза.
– Слава Всевышнему Богу, и на земле мир!
Певчие вторили призыву, и это же трижды прокричали верующие в храме.
– Сей день Господень великий! – пели певчие. – Сей день радости и славы мира. Он же венец царствия возложен достойно на главу твою!
И опять народ трижды повторил за певчими каждое славословие.
– Слава Богу, Господу всякой твари! Слава Богу, венчавшему главу твою!
Это уже относилось к присутствующему на службе императору. Патриарх хорошо видел базилевса Льва Македонянина, стоявшего на возвышении неподалеку от алтаря. В золотых одеждах, в мерцающем венце, с покаянным лицом – никакой важности, – со смиренно опущенными долу очами. Смиренно… Гм. Патриарх Николай знал, сколько упорства в этих опущенных глазах, в этом слабом, обрамленном бородой рте. Невысокий, довольно тщедушный, больше занятый кабинетными трудами в тиши Палатия, нежели укреплением телесной мощи, Лев в свои сорок лет казался отроком, отпустившим бороду. А за ним и половина ромеев перестала брить подбородки, и теперь многие царедворцы носили заостряющиеся книзу клином бороды, состригали коротко волосы на темени, но сзади оставляли длинные пряди.
Только стоявший подле базилевса кесарь Александр, словно желая отличаться от царственного старшего брата, продолжал чисто брить лицо, что придавало ему юношеский облик. Александр с его несерьезностью и распутством вообще мало участвовал в делах управления. Будучи при дворе, он, как и положено, присутствовал на всех церемониях, однако считался слишком несерьезным и беспечным, чтобы Лев чувствовал его поддержку. А может, базилевса это устраивало. Лев, несмотря на свой скромный вид, любил власть. Александр же посвящал свою жизнь развлечениям, охоте и пирам, любовным утехам. Тем не менее Александра любили в Константинополе. Красавчик, щедрый на раздачу милости, запросто державшийся с любым, он имел свое собственное окружение, и добиться приема у младшего из братьев было куда проще, чем у старшего. Да и договориться с ним было легче. По крайней мере патриарх Николай больше симпатизировал этому вертопраху, нежели вечно кающемуся, религиозному Льву, который больше следовал советам своих сановников, чем прислушивался к мудрым речам Николая. Он даже смел идти вопреки воле владыки! Вон и теперь вызвал латинских священнослужителей, чтобы они, ссылаясь на власть Папы Римского, вынудили патриарха согласиться на богопротивный четвертый брак Льва с блудницей, родившей ему долгожданного наследника.
Патриарх покосился в сторону митатория,[75] где у золоченых перил стояла Зоя Карбонопсина, вся в рубинах, золоте и алой парче. Обвивающий ее стан лор[76] так изукрашен, как даже сам император и его брат не смеют наряжаться. И стоит– то как… гордо. Поглядеть, так и впрямь императрица: высокая, статная, с почти иконописными большими черными глазами, тонким греческим носом, яркими маленькими губами. Красавица и, как поговаривают, пылкая возлюбленная на ложе. Вот этим она и очаровала тщедушного на вид императора, который любил постельные утехи. Ах, этот Лев Мудрый, Лев Философ, а по сути подкаблучник, раб плотских услад. Хотя о сыне– наследнике он мечтал давно… Патриарх Николай посочувствовал бы ему, так желавшему продления на ромейском престоле ветви Македонской династии, но для этого требовалось нарушить каноны, которые он считал незыблемыми.
Но было еще нечто, не позволявшее Николаю признать Зою венчанной женой и императрицей: эта женщина отличалась не только любострастием, но и крайней властностью. Очарованный красотой Зои, Лев попал в тенета ее чувственности и ликовал по поводу рождения долгожданного сына, но при этом не видел, какую хитрую и своевольную змею он пригрел подле божественного престола империи. Он во всем слушал Карбонопсину, потакал ей вопреки советам и наставлениям патриарха. То ли еще будет, если позволить Зое подняться выше статуса наложницы, надеть пурпур[77] и украсить ее чело императорским венцом. Нет, он, Николай, прозванный Мистиком,[78] пойдет на все, только бы эта женщина не стала законной женой базилевса.
Николай повернулся к Феофилакту. Тот сразу застенчиво заулыбался. Пухленький, кудрявенький, ничтожный. Но нужный и зависящий. Зависящий – значит, верный.
– Где та женщина, о которой ты говорил мне?
Феофилакт, перебирая складки своей роскошной сверкающей хламиды, приблизился мелкими шажочками, глянул через плечо высокого и полного патриарха в обширное пространство храма. Он видел перед собой освещенных лившимся сверху солнечным светом прихожан, которые явились на службу в собор Святой Софии, видел море торсов и голов. Женщины стояли по левую сторону, и их было даже больше, чем мужчин. Однако Феофилакт заранее заприметил место, где находилась русская княжна. Не очень– то на виду, но и не так далеко, чтобы патриарх не высмотрел ее из реликвария.
И все же не высмотрел. Феофилакт указывал ему и на нежно– розовое покрывало у нее на голове, и на янтарную диадему, однако Николай, как ни щурил желто– зеленые близорукие глаза, так и не смог разглядеть, какова она собой.

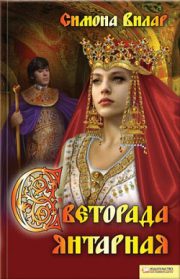
"Светорада Янтарная" отзывы
Отзывы читателей о книге "Светорада Янтарная". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Светорада Янтарная" друзьям в соцсетях.