А вот теперь он меня удивил. Сперва я не сознавала, насколько серьезно прозвучало это «да». Однако я решила не оставлять этого без внимания и после возвращения из отпуска снова въехать в нашу квартирку. Когда до Варшавы оставалось совсем немного, он осторожно спросил меня, куда я поеду сначала, на Мальчевского или домой.
– Домой, – ответила я.
– Тебе нужно забрать какие-то вещи?
– Я там живу!
Увы, там я уже не жила, только пока еще не знала об этом. Эдвард занес наверх наши чемоданы, после чего сказал, что должен выйти на минуту, и не появился до утра. Он позвонил мне уже из редакции.
– Дарья… между нами останется все по-прежнему… но… в моей жизни появилась другая женщина…
– Кто?
Он кашлянул, прочищая горло.
– Другая…
– Я ее знаю? – Да.
– И кто она?
– Алиция.
– Случайно, не та, что из Страны чудес?
– Она учила меня английскому…
– Значит, все-таки мадам де Турвель, – подхватила я не без ехидства.
– Прекрати, – раздраженно ответил он.
– Ты уже со мной не играешь?
– Играла со мной ты.
– А ты мне изменял!
– С твоего благословения.
– Я беру его назад, – быстро произнесла я, одновременно понимая, что говорить этого не должна, потому что в данной ситуации это прозвучало жалко.
В трубке воцарилась молчание. Не в силах дольше переносить его, я бросила ее на рычаг.
Второго звонка не последовало, я взяла так и нераспакованный чемодан и поехала на Мальчевского. Дверь мне открыл дядя, чисто выбритый, в домашней куртке. Глядя на мой чемодан, он покачал головой. Еще вчера я заявила ему, что остаюсь с Эдвардом.
– Надолго ли? – спросил дядя.
– Он мой муж, – ответила я.
Следующий после праздников день я провела как в кошмаре. Все началось с разболевшегося зуба. Я сразу же обратилась в санчасть, но оказалось, что зубной кабинет не работает. Старая бормашина окончательно отказала, а на новую не было денег. Кризис добрался и сюда. Заключенных теперь возили в поселок в обыкновенную поликлинику, и то только в экстренных случаях. Надзирательница потребовала, чтобы мне и другой маявшейся зубной болью бедолаге обязательно надели наручники, а иначе она не возьмет на себя ответственность и т. д. и т. п. Снова приходилось испытывать это жуткое чувство. Скованный наручниками, ты становишься совершенно беспомощным: это все равно что падать лицом вниз и не иметь возможности его заслонить.
В тюремном фургоне я сидела бок о бок с такой же, как и я, скованной наручниками заключенной. Она напоминала мне женщину с кувшином молока со знаменитой картины Вермеера, репродукцию которой я повесила в своей спальне.
В Амстердаме устраивали авторский вечер по случаю выхода моей книги в Голландии. Мы поехали туда вместе с Эдвардом. Впервые мы выезжали за границу по моей надобности и жили там на мой гонорар, а не на его суточные, выделяемые Институтом литературных исследований. Я была горда этим. Похоже, он тоже гордился мной – столько лестных слов нам пришлось выслушать о моей книге. Серьезная литература, необыкновенный роман, потрясающая проза и т. д.
Это была странная поездка. Нас принимали за супругов и в гостинице зарезервировали один номер, а ведь он уже два года жил с другой.
Перед поездкой я боялась, что он откажется и не поедет со мной. Долго думала, как сказать ему об этом. Все откладывала разговор, пока не начали поджимать сроки и дольше откладывать было уже нельзя. Когда Эдвард появился на Мальчевского, я неуверенно начала разговор:
– Меня приглашают в Голландию на встречу с читателями…
– Да что ты! – обрадовался Эдвард, в этот момент он как раз заваривал кофе на кухне. – Я надеюсь, ты согласилась поехать?
– Я ни разу не была за границей одна. Немного боюсь.
– На самом деле тебе совершенно нечего бояться.
– А ты… ты бы не хотел поехать со мной?
Он взглянул на меня, как бы желая удостовериться, говорю ли я всерьез.
– Я мог бы, – медленно произнес он. – Только на несколько дней.
– На два!
Что он ей сказал, я не знаю. Думаю, он скрыл от нее, что едет со мной. Тогда она уже была больна, о чем я, в свою очередь, не имела понятия. И несмотря на это, он оставил ее одну, а может, именно поэтому и оставил. Ему необходима была передышка, отдых от разыгрывающейся на его глазах трагедии…
Мы оба хотели посетить Рейксмузеум[12]. Но, оказавшись там, разбежались в разные стороны: Эдвард отправился любоваться полотнами Рембрандта, а я пошла на встречу с Вермеером[13]. Я была знакома с его творчеством по альбомам живописи и предвкушала удовольствие от осмотра оригиналов. Но увидев полотна художника воочию, я была ослеплена. Несмотря на то что оригиналы были значительно меньших размеров, чем я себе представляла, свет, исходивший от них, завораживал. Не знаю, как долго я стояла у его картин… До этого я не понимала, зачем в музейных залах расставлены скамеечки, ведь туда приходят не за тем, чтоб часами рассматривать одну картину. А сейчас случилось именно так. Оказалось, что я пришла сюда ради крестьянской женщины, которую художник увековечил на своем полотне.
Теперь рядом со мной в тюремном фургоне сидел абсолютный двойник голландской крестьянки. Такое же крупно вылепленное лицо, выпуклый лоб, даже одинаковый разрез глаз. Идентичные очертания плеч и полной груди. И что самое смешное, рукава ее тюремной куртки, которые она закатала до локтя, так же как и у той, на картине, заламывались в местах сгиба. Похоже, возраст тоже совпадал. Мне вдруг подумалось, что, если мою соседку по несчастью отвезти в Амстердам и посадить рядом с картиной, это была бы сенсация.
Она повернула голову ко мне и улыбнулась, а я подумала про себя, что уже знаю, как бы выглядела картина, если бы натурщица наливала молоко с улыбкой.
– Так вы и есть та самая писательница, – внезапно заговорила моя соседка в наручниках. – Все в тюрьме только о вас и говорят…
– Меня зовут Дарья, – сказала я, давая ей понять, что являюсь такой же заключенной, как и она. После довольно продолжительного периода сознательной изоляции я начинала постепенно искать контакты с миром, в котором оказалась, начинала отождествлять себя с ним. Впрочем, с этим отождествлением я немного переборщила, но в этом заключалось молчаливое согласие с новой жизнью.
Свою роль в этом наверняка сыграло и присутствие в этих стенах Изы – в каком-то смысле это был ее мир. Такой тесной связи с другими людьми мне никогда еще не приходилось испытывать, даже на свободе. Я скорее сторонилась людей, избегала их. Они раздражали меня, навевали скуку.
Единственным человеком, которого я признавала в качестве своего интеллектуального партнера, был Эдвард. Хотя я не могла простить ему многих вещей, и прежде всего его публичных высказываний, идущих вразрез с тем, что он думал на самом деле. Когда-то со злости я крикнула ему, что его следует посадить в банку с формалином и сохранить для будущих исследователей двойной социалистической морали. Как же зловеще звучали теперь эти слова…
Но правдой было то, что с ним мне никогда не было скучно. Меня интересовали его суждения, но только те, настоящие! С ними я считалась. Кажется, он прочитал все, что только было можно прочитать. Кроме того, он обладал фантастической памятью. Иногда после его очередного монолога у меня мурашки бегали по коже. Возможно ли такое, чтобы один человек мог служить вместилищем для такого количества знаний?! Надо сказать, что Эдвард был человеком очень талантливым: из пришедшего в упадок еженедельника, этакого обозрения литературных событий в мире, которое никто не покупал, он сумел создать журнал высокого уровня и завоевать любовь читателей. Помню, сколько нервов ему стоило отстоять рассказ Булгакова, который собирались снять с печати. Тогда Эдвард пошел на компромисс и написал разгромную рецензию на произведение «Жестяной барабан» Понтера Грасса, отвергнутое цензурой из-за вошки, которая осмелилась ползти по воротничку гимнастерки советского солдата; оно было напечатано в самиздате. Парадокс: официальная газета опубликовала рецензию на книгу, которой официально не существовало на книжном рынке. Рецензия была размещена в газете с огромным тиражом, и Эдварду было разрешено напечатать в журнале Булгакова. Репутация Эдварда сильно пошатнулась, зато журнал выиграл. Коммунисты не считали его совершенно своим и наблюдали за ним, держали его на расстоянии. Он не вписывался в их круг. Его культура, образ жизни слишком отличались от принятого у них: во время общих возлияний, вместо того чтобы, подобно другим, падать под стол, он выпивал всего две-три рюмки.
Такой человек вызывал подозрения, он не мог считаться настоящим коммунистом. Настоящий коммунист смотрел всем прямо в глаза, а Эдвард никогда не смотрел в глаза. Он даже мне не смотрел в глаза, но это не имело ничего общего с угрызениями совести. Просто он всегда о чем-то думал, был чем-то поглощен и вечно везде опаздывал. Редакция, Институт литературных исследований, запись на телевидении, интервью на радио. Жил на бегу, рецензировал какие– то книги, потом эти рецензии летели в корзину, приходилось писать новые. Он этим жил. Когда режим сменился и его перестали приглашать на телевидение и радио, он страшно переживал. Он мечтал о славе и любил, когда продавщица в магазине восклицала в восхищении: «А я вас видела вчера по ящику!» Неважно, что из сказанного им в эфире она не поняла ни слова. Его самолюбие было удовлетворено. Если говорить честно, то он презирал всех людей – для него вообще не существовало авторитетов. Исключение составляли, наверное, только какие-нибудь нобелевские лауреаты… Но он любил многих писателей и понимал их. Мой немецкий издатель как-то рассказывал мне об одном критике, который держал в своих руках писательские судьбы – мог возвысить, а мог и уничтожить карьеру любого. Передача, которую он вел на телевидении, пользовалась у зрителей огромным успехом, поскольку сам он был личностью неординарной. Один его каприз, и чье-то писательское будущее могло полететь в тартарары. При этом он был человеком неподкупным и руководствовался только своими пристрастиями и художественным вкусом. Если бы Эдвард мог отважиться на такую же независимость суждений, он наверняка стал бы непререкаемым литературным авторитетом, поскольку редко ошибался в своей оценке писателей. Разумеется, высказанной в частном порядке, ибо официально он награждал лаврами только тех, кому благоволили коммунисты.

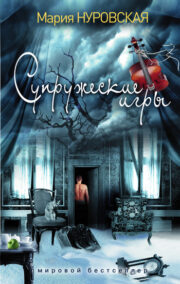
"Супружеские игры" отзывы
Отзывы читателей о книге "Супружеские игры". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Супружеские игры" друзьям в соцсетях.