– Катька – это Катька, – только смеялся в ответ Эдвард, когда я заговаривала с ним о дочке хозяев.
Мы не первое лето приезжали к ним в каникулы. И вдруг я стала замечать, что девочка начала бросать на него томные взгляды.
– Не дай бог тебе огорчить этих людей, – предостерегла я его.
Когда-то это была худенькая девчушка, которая ходила со мной по грибы – Эдварда трудно было вытащить на прогулку в лес. Чуть ли не с самого первого дня нашего приезда он как плюхался в кресло на веранде, так и сидел, обложившись книгами, все дни напролет. Он оккупировал веранду, не обращая внимания на то, шел ли дождь или светило солнце.
Мне нравилось ходить на прогулки с Катей. Она была впечатлительным ребенком, наделенным богатой фантазией. Бродя с ней по лесу и наблюдая взрывы детской радости, когда она находила затаившийся во мху крепкий боровичок, я про себя жалела, что Катя не моя дочь, вернее, не наша… Разумеется, с условием, что это был бы уже готовенький, выращенный кем-то ребенок… Потом, будучи уже школьницей, Катя предпочитала общество Эдварда. Она оставалась с ним на веранде, а я тем временем в одиночестве отправлялась в лес. По выражению его лица я видела, что особой радости ему это не доставляло. Он даже ворчал по этому поводу. Но внезапно ворчание прекратилось. Как ножом отрезало. Меня это здорово озадачило, и я начала присматриваться к ним, к их внезапному сближению. Не укрылось это и от внимания матери девочки.
– Пан доцент прямо заклинатель змей, – сказала она. – Нашу Катю совсем околдовал.
Прошло еще несколько лет, мы потеряли из виду нашу лесную нимфу. В один прекрасный день мы сидим у телевизора, смотрим «Три сестры» Чехова (дипломный спектакль Театральной школы получился настолько удачным, что его решили пустить в эфир), и кого же мы видим в роли младшей сестры – нашу Катьку. Она играла Ирину. И как играла! В какой-то момент Эдвард даже сказал:
– Слушай, а тебе не кажется, что спектакль стоило назвать «Младшая сестра»? Катька всех затмевает.
В немом восторге я сидела, уставившись в экран.
– Вот не знала, что наша Катька поступила в Театральную школу, – воскликнула я.
– Я знал, – бросил Эдвард.
Не скрывая изумления, я глянула на него:
– Мог бы и мне об этом сообщить.
Эдвард сделал неопределенный жест рукой:
– Мне это как-то в голову не пришло.
С экрана продолжали звучать чеховские диалоги, а я про себя не могла не признать, что, хотя партнеры Кати играли очень хорошо, это не могло сравниться с ее игрой. Ее фигура приковывала к себе все внимание. Манера, в которой она произносила свои реплики, мимика, жесты – все было проникнуто какой-то необычайной гармонией, воздействовало на воображение, было в своем роде единственным и неповторимым. Это была самая прекрасная Ирина, какую только можно было себе представить.
– Ты только посмотри, как она играет! – восторгался Эдвард.
– Надеюсь, это не Младшая сестра из твоей пьесы!
– Нашей пьесы, – поправил он, глядя на меня с легкой иронией.
– Только не она, слышишь! – раздельно проговорила я. – Как я смогу потом взглянуть в глаза ее родителям…
– Да ведь мы туда уже не ездим, – упрямо возразил Эдвард.
– Все равно!
Откинув голову назад, он громко рассмеялся:
– Дорогая моя женушка, ты действительно переоцениваешь меня, неужели я похож на того, кто топчет все, что движется?
– Я тебя предупредила, – сухо пояснила я. – Никогда бы тебе этого не простила!
Лицо Эдварда сделалось замкнутым, даже враждебным.
– Не тебе меня прощать! – услышала я в ответ.
Что значит в моей жизни Иза, я поняла, когда она исчезла из поля моего зрения. Уехала на рождественские каникулы и должна была вернуться после Нового года. В это время камеры пустеют – многие заключенные получают увольнительные домой. В нашей камере уехала пани Манко, а вот Маска с Любовницей решили на праздники остаться здесь. Обе заявили, что тут им будет не так грустно, как за стенами тюрьмы. Время остановилось, мне ничего не хотелось делать – до обеда я валялась на нарах, а потом тащилась в библиотеку – это была моя обязанность. Возвращалась вечером и тут же забиралась наверх, укладываясь лицом к стене. Внизу кипела обычная тюремная жизнь запертых в тесной камере женщин. Компанию им составлял голубой экран телевизора, трещавшего без перерыва.
Оставаясь одна, я все чаще возвращаюсь мыслями к прошлому, как бы стараясь вновь вспомнить свою биографию или хотя бы ее фрагменты. Сюда я приехала человеком со стертой памятью. Для меня существовало только настоящее время. Я не строила никаких планов и панически боялась обернуться назад. Это и понятно – за плечами у меня была только смерть. А теперь во мне что-то медленно оживает, появляется надежда. Быть может, преждевременно. И точно, из-за отъезда Изы внутри снова все заледенело.
За несколько дней до Рождества в камеру вернулась Агата, и я с сожалением отметила про себя, что она хромает. К ее физическому уродству добавилось еще и тяжкое увечье. Как говорится, мало того что слепая, так еще и горбатая. В связи с ее возвращением возникла проблема: какое место ей занять? До этого на нижних нарах спала пани Манко, вторые нары внизу делили Маска и Любовница, а третьи оставались свободными. Оказывается, раньше их занимала возлюбленная Агаты. Агата уступила их ей, потому что у девушки была боязнь высоты. После выхода подружки на волю Агата так и не перебралась вниз. Может, не хотела воскрешать воспоминания о проведенных вместе часах? Пани Манко рассказывала, что когда обе парочки начинали ворковать, то она не знала, куда ей деваться. «Хоть об стену головой бейся». Ей даже не с кем было поделиться, а мужу на свиданиях она стеснялась рассказывать о том, что тут творится по ночам. С моим приходом она воспряла духом, вдвоем со мной почувствовала себя как-то увереннее. Про себя пани Манко тихо молилась, чтобы я не оказалась такой же, как они. По ее мнению, уж лучше делить камеру с самой отъявленной убийцей, чем с извращенкой. «В ту ночь, когда Агата влезла к вам на нары, я все слышала, но не отзывалась из-за страха – это же чудовище. Она и прибить могла, с нее станется». Определенно пани Манко не отличалась особым тактом.
Сейчас третьи нижние нары занимала Аферистка. Однако речи не было о том, чтоб Агате с больной ногой карабкаться наверх, а мне какой-то мерзкий голос внутри нашептывал, что теперь я в безопасности и, несмотря на ее присутствие, могу спокойно спать по ночам.
– Девчата, перебирайтесь наверх, – обратилась Агата к моим соседкам снизу.
– Да ты что, у нас тут свое гнездышко, – возмутилась Маска.
– Ясное дело, мы спим здесь, – вторила ей Любовница, которая всегда была эхом своей подружки.
Они знали, что теперь могут настаивать на своем – у Агаты было очень неуверенное выражение лица. Стоя посреди камеры со своим узелком в руках, она беспомощно оглядывалась по сторонам – не могла же она предложить переехать пани Манко, учитывая ее седины. Седина сильно старила пани Манко, я очень удивилась, когда она сказала мне, сколько ей лет на самом деле.
В этот момент в камеру вошла Аферистка, которая работала на кухне и всегда возвращалась позже всех. Хотя в этой молодке было не меньше женственности, чем в Изе, она была полной противоположностью нашей Воспитательнице. Ее сущность была видна сразу. Аферистка смиренно приняла новую жизнь, безропотно встала к раковине и целый день, не отходя, драила закопченные кастрюли. Единственное, чего она опасалась больше всего, так это того, чтоб окончательно не загубить кожу своих рук. Куда сунешься с такими руками на воле? Вдруг придется организовать новую фирму, не будет же она все время ходить в перчатках. А испорченные руки ее тут же выдали бы. А посему они стали предметом ее особой заботы. Через Войтуся – того самого, что принимал за границей ее фиктивные факсы и которого она в суде всячески выгораживала (это удалось благодаря тому, что их брак формально не был зарегистрирован), – Аферистка доставала резиновые перчатки. Она была свято уверена, что в будущем такая предосторожность оправдает себя полностью, ведь ухоженные руки – это своего рода ценный капитал! Разобравшись, в чем дело, Аферистка произнесла: – Это не проблема, я пойду наверх. – И, напевая, принялась сворачивать свою постель.
В последнее время я плохо сплю, много раз за ночь просыпаюсь. Может, причиной тому – разлука с Изой? На Мальчевского я тоже вот так лежала с открытыми глазами и думала об Эдварде и о его таинственной незнакомке. Как все это выглядит у них, что они говорят друг другу, просыпаясь рядом по утрам? Мы встречались с ним за завтраком, а они спят в одной постели. И как это переносит Эдвард, который, так же как и я, всегда нуждался в уединении? Когда он работал, то не переносил ничьего присутствия на территории, которую считал своей. Даже я мешала ему. Он отвечал невпопад, нервно начинал перекладывать бумаги на столе, с нетерпением ожидая, когда же я наконец уйду. А эта пассия, как она справлялась с этим? Не думаю, чтобы она умела занимать сама себя. Наверняка требовала, чтоб Эдвард развлекал ее. Что он думал о ней? Бывали ли такие минуты, когда ему это надоедало? Сожалел ли он о своем решении? Ведь рано или поздно, а из постели приходилось выходить… А как выглядело их постельное сожительство… чего было в нем такого особенного, что Эдвард распростился со своей независимостью? Передо мной рисовались эротические сцены из знаменитых фильмов – мысленно к телам героев фильмов я приставляла головы Эдварда и его партнерши. Один раз память услужливо подсунула мне Полу Негри и Рудольфа Валентино в любовной сцене, и несмотря на то, что мне было невесело, я прыснула со смеху. Я пыталась также вызвать в памяти наши любовные сближения. Сам момент вторжения. Что я тогда чувствовала и что должен был ощущать он? Прежде всего мне хотелось воссоздать его реакцию. Но я так и не сумела… я не помнила ни единого его слова или жеста. Была одна только я. Я лучше всего помнила свой страх… Так, может, я не ревновала Эдварда и смогла смириться с его двойной эротической жизнью, потому что не коллекционировала в себе никаких конкретных деталей нашей совместной жизни? Я не обращала внимания на грубость, эгоизм, самолюбование, запоминая лишь нежность, преданность, духовное понимание. Я ни за что не хотела, чтобы он отдавал это другой женщине. Я должна была занимать исключительное место. Однако всего этого я не могла объяснить девушке, которая в один прекрасный день появилась в нашей квартире. Раздался звонок в дверь, я открыла и увидела у дверей ее, эту девушку. На улице шел дождь, она вымокла, хотя и была в плаще, с ее прямых длинных волос стекала вода. Мокрым было и ее лицо, на котором выделялись глаза, огромные и как будто голодные. В них горел любовный голод. Она пришла сюда в отчаянии, после длительной внутренней борьбы.

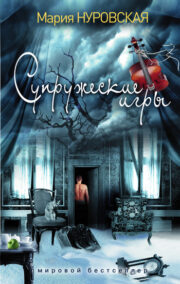
"Супружеские игры" отзывы
Отзывы читателей о книге "Супружеские игры". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Супружеские игры" друзьям в соцсетях.