– Сюда входить нельзя, – резко сказала я.
Эта тварь убралась, но в следующий раз уже не обратила внимания на мое предостережение. Опершись спиной на полку и не сводя с меня своих огромных раскрашенных глаз, она принялась мастурбировать. Мне сделалось плохо от отвращения. Не зная, что с этим делать, я замахала руками, как будто выгоняла кур с огорода.
– Кыш, кыш! – твердила я.
Существо, однако, довело свою любовную игру до завершения, поморгало жесткими ресницами и наконец уползло восвояси.
В тот день дежурство несла Мышастик. Она вязала на спицах пинетки для внука, и происходящее вокруг ее не волновало.
– Она снова притащилась сюда, – сказала я расстроенным голосом.
– Кто?
– Да эта с фиолетовым хохлом.
– А-а… Аська, что ли? – махнула рукой надзирательница. – Она ненормальная.
– Но она не дает мне работать.
Мышастик подняла на меня глаза поверх очков:
– Да ведь она ничего не делает, просто стоит рядом. Чем это, пани Дарья, она вам помешала?
Я не смогла ей сказать, чем занимается эта Аська, когда якобы просто так стоит, – язык не повернулся.
Лежа на нарах, я с тоской думала, что меня лишают моего последнего убежища. В библиотеку я теперь входила со страхом, поскольку знала, что та, с гребнем, появится снова и будет следить за мной взглядом. Наученная горьким опытом, я больше не старалась скрыться за полками с книгами, потому что ее, разумеется, это ни от чего не удерживало. Как только мы оставались одни, она задирала юбку и лезла рукой в трусики. В душе я молилась, чтобы кто-нибудь вошел в этот момент, но, как назло, в это время в библиотеке всегда было пусто. В конце концов я рассказала обо всем Изе.
– Мы держим ее здесь, потому что от нее все отказываются. В дурдоме нет мест, для детского дома она уже стара. Вот что с ней прикажешь делать?
– Да, но почему она нацелилась именно на меня?
– Она постоянно мастурбирует, это ее успокаивает, – бросила Иза.
Однако, видя, как я переживаю, она приказала надзирательницам не пускать Аську в библиотеку. К сожалению, не все строго придерживались этого запрета.
Моя бабушка Нина Андреевна
Она приснилась мне однажды ночью такой, какой я ее запомнила в детстве: прямая, статная, с каштановыми волосами, старательно заплетенными в косу и закрученными на затылке венцом. На ее лице с правильными чертами выделялись светлые глаза, внимательные и чуть грустные. Эта восточнославянская грусть в глазах была, по мнению Эдварда, нашей единственной общей чертой. Я была намного ниже ее, и волосы у меня были светлее. Некоторые считали их рыжими, но я описала бы их так: светлые на концах, а у корней медно-каштановые. Одним словом, какие-то неопределенные, как и все в моей жизни. Непонятно, к какой национальности я принадлежу – не то белоруска, не то полька. Ничего определенного нельзя было сказать и о моих родителях – я росла без отца с матерью. Единственным устойчивым понятием в моей жизни была бабушка. Она всегда говорила тихим, но решительным голосом. Чувств своих особенно не проявляла, но я знала, что она меня любит. Наши отношения складывались безоблачно. В целом я была послушной, впрочем, она предоставляла мне полную свободу. Никогда ничего не навязывала, даже когда я была ребенком. Только один раз между нами произошел настоящий скандал. Она ударила меня по лицу, а потом мы плакали, я в своей комнате, она – в своей. Но на следующий день все опять было по-прежнему. Никогда больше – даже став совсем взрослой – я не спросила ее, правда ли, что она выдала в руки госбезопасности моего отца… Как они и договорились с моим дядей, до получения аттестата зрелости я жила в приходском доме и каждый день добиралась в школу на дрезине по нашей узкоколейке. А потом поступила на филологический факультет университета в Варшаве и к бабушке приезжала только на праздники и в каникулы. Родственная связь между нами стала ослабевать. Батюшка вышел на пенсию, и бабушка вместе с ним переехала в Бялысток. Я была там всего раз или два до ее болезни. А заболела она тяжело, хотя на протяжении всей жизни ни на что не жаловалась. Ничем не болела, даже насморка не схватила ни разу. Прямо несла свою голову с заплетенными в косу густыми волосами и в улыбке открывала ряд ровных беленьких зубов. И вдруг звонок из Бялыстока. Нина Андреевна умирает. Сначала я даже не поняла, в чем дело, ведь несколько месяцев назад видела ее в полном здравии, и тут такое известие. Войдя в больничную палату, в первый момент я никак не могла сориентироваться, на какой койке она лежит. Мне указали на высохшую старушку с морщинистым бескровным лицом и беззубым ртом. Сквозь редкие волосы просвечивала розовая кожа. Я узнала ее только по голосу.
– Оставь меня здесь, Дарья, – с усилием произнесла она, – возвращайся к мужу.
Я упрямо покачала головой:
– Я заберу тебя отсюда.
– Оставь меня. Человек гаснет как лампа, в моей уже подкрутили фитиль…
Несмотря на ее сопротивление, я привезла бабушку в Варшаву в карете «Скорой помощи». Отдала ей свою комнату, перебравшись в комнату Эдварда. Мы занимали небольшую двухкомнатную квартирку с крошечной кухней без окна. Именно в тот период, когда бабушка медленно умирала в моей комнате, возник первый серьезный кризис в нашей семейной жизни с Эдвардом. То, что я чувствовала тогда по отношению к Эдварду, можно было бы назвать ненавистью. Я и раньше знала, что он бывает жесток – пару раз болезненно ощутила это на собственной шкуре, – но его поведение в течение нескольких месяцев, пока бабушка оставалась с нами, можно было бы определить одним словом: подлость. Как всякий мужчина, он не переносил духа болезни в доме, а когда я лежала в постели с гриппом, бывал просто несносен. Правда, когда однажды у меня началось воспаление надкостницы и я не могла спать по ночам, он тоже не спал. В одну из таких бессонных ночей я застала его в кухне с покрасневшими глазами. Он вытирал нос платком.
– Ты что, плачешь? – озадаченно спросила я.
– Не могу видеть твои страдания, – ответил он.
Но страдания бабушки его не волновали. Он был взбешен оттого, что вынужден чувствовать себя стесненным в собственной квартире. Не успевала я оглянуться, как он захлопывал дверь в комнату, где она лежала. Бабушка была уже слишком слаба, чтобы справиться с замком. В ванную она шла по стеночке, так и остался потом темный след на стене, где она придерживалась за нее рукой. После смерти бабушки я пережила психологический коллапс, спала по шестнадцать часов в сутки. Стоило мне где-нибудь присесть, как веки слипались сами собой. Впечатление было такое, что я стремилась убежать в сон от той боли, которую я испытывала после утраты самого близкого мне человека. Эта боль нашла выход: я написала книгу, скорбную элегию – плач дочери, которая не может похоронить тело матери, не в силах физически с ней расстаться. Ее гнетет чувство ужасной потери, как будто из ее сердца вырвали кусок живого мяса. Я писала «мать», а подразумевала бабушку… Эдвард, прочитав рукопись, сказал: – Если бы ты была писательницей во Франции, то сразу бы получила Гонкуровскую премию, а здесь тебя мало кто поймет. В провинциальной стране надо писать провинциальную литературу.
Разговор с Изой
Но почему же ты переехала к дяде? – Я переезжала неоднократно, но всякий раз приходил Эдвард и уговаривал меня вернуться. Я снова укладывала чемодан, а он относил его в машину.
– А как же женщина, с которой он жил?
– Она переехала к нему осенью восемьдесят седьмого, сразу после нашего очередного возвращения из отпуска.
– Вы вместе проводили тогда отпуск?
– Да. Он сказал мне, что она будет жить с ним в нашей квартире… впрочем, не сказал, а дал понять. У нас с ним была такая игра… С самого начала нашей совместной жизни некоторые свои проблемы мы решали с помощью литературных цитат… А потом, когда появлялись все новые и новые женщины в его жизни, мы старались отыскать для них литературные аналоги…
– Как это, старались отыскать? Ведь это были его любовницы!
– Я и говорю, каждый раз, когда у него начинался новый роман, он оставлял мне записку: «Дама с камелиями», – и я уже знала, о чем идет речь. Или «Мадам Бовари»…
– И тебе не было обидно?
– На этот вопрос нельзя ответить однозначно. С одной стороны, я страдала, но с другой… от этого выигрывал наш союз, нас это сближало…
– Особенно тогда, когда он спал с другими бабами.
– У меня все было под контролем!
– Но почему же ты мирилась с подобным положением вещей?
– Так ведь я сама ему это предложила. Вот такую ограниченную свободу. Мне казалось, что если я знаю обо всем и он знает, что я знаю, то я владею ситуацией. Для меня не имела значения физическая неверность, я лишь хотела быть в его жизни единственной женщиной… той, самой важной… Так и было, потому что он мне обо всех рассказывал… К примеру, за завтраком говорил: «Прощаясь со мной, Дама с камелиями использовала две дюжины носовых платков…»
– Вы все-таки оба больные, это ненормально!
– Это было одним из условий нашей игры… В тот памятный отпуск в восемьдесят седьмом он вышел из игры. Я знала, что у него кто-то есть, но на сей раз он избегал разговоров об этом. Частенько ходил звонить на почту, хотя мог бы воспользоваться телефоном в пансионате, где мы отдыхали. Он не хотел, чтобы я слышала, о чем он с ней говорит. В один из дней, отправляясь на прогулку, я оставила на столе записку: «Как обстоят дела с нашей игрой?» Записка исчезла, но ответа я не получила. Тогда я написала еще одну записку: «Мадам де Турвель?» И в ответ получила: «Да». И лишь тогда я поняла, что значит ревновать мужчину…
– А кто это такая мадам де…?
– Турвель.
– Кем она была?
– Вы читали «Опасные связи» Шодерло де Лакло?
– Нет.
– Это история бывших любовников, которые остались в дружеских отношениях. Маркиза втягивает своего бывшего возлюбленного, виконта Вальмона, в сеть интриг, которые доводят до смерти его любимую женщину. Этой женщиной и была мадам де Турвель. Теперь вам понятно?

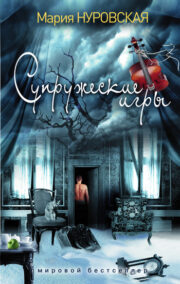
"Супружеские игры" отзывы
Отзывы читателей о книге "Супружеские игры". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Супружеские игры" друзьям в соцсетях.