– Почему ты все-таки убила его?
Я почувствовала себя припертой к стене, не знала, что мне ответить. Ну действительно, как ответить на такой прямолинейный вопрос?
– Я все рассказала на суде… – буркнула я, хотя это было неправдой. В суде за меня говорил адвокат, я по большей части молчала.
Иза рассмеялась:
– В суде говорят разные вещи. Я спрашиваю тебя неофициально. Ты ненавидела его?
– Я… я любила его.
– Он тебя не любил?
– Нет, он тоже меня любил.
Уголки ее губ дрогнули в уже знакомой кривоватой усмешке. Она затянулась, выдохнув серо-голубое облачко дыма, которое на мгновение скрыло от меня ее лицо.
– Вы были той еще парочкой.
– Собственно говоря, все было не так уж плохо, – после краткого раздумья сказала я, – если бы не другие люди…
Я осеклась. Как мне объяснить, что под «другими людьми» я имела в виду женщину, с которой Эдвард жил?
– А почему вы оба были раздеты в тот день?
«В тот день»… То, что она употребила именно эти слова, ошеломило меня. Я вдруг поняла, что оказалась здесь неслучайно. Я всегда ждала такого полного душевного контакта с другим человеком, но полагала, что это невозможно. Мы с Эдвардом очень хорошо понимали друг друга, иногда мне достаточно было начать предложение, а он его с легкостью заканчивал. Но никогда не происходило такого, чтобы он сказал за меня какие-то слова от начала до конца. Возможно, потому что он был мужчиной…
Сразу после прихода в библиотеку, или, как говорят мои сокамерницы, в «читалку», я занялась изучением кипы разных бумаг. Большинство библиотечных поступлений оказалось подарками. Список дарителей был солидным и состоял в основном из учреждений, которые решили избавиться таким образом от ненужных книг, например собрания сочинений Ленина. Но попадались и вполне приличные книжки, присланные в качестве рождественских подарков от издателей. Мне в руки также попались перечни списанных книг, зачитанных заключенными до дыр. Такой чести в нашей библиотеке удостаивались пока только детективы. Забавно, что в уголовном мире бешеным успехом пользовались книги с криминальными сюжетами. Может, их читали как обучающую литературу?
– Чего это вы, Дарья, роетесь в этих старых бумагах? От пыли можно получить воспаление печени, – крикнула из дежурки Мышастик. – Одна моя знакомая плохо кончила, потому что без конца носилась по квартире с тряпкой и вытирала пыль. У нее это отразилось на печени…
Я тут же понимаю, в чем дело, – она подходит ко мне и вынимает из-за пазухи мой последний роман:
– Может, подпишете? Одна моя знакомая очень просила, она зачитывается вашими книжками. Говорит, что вы хорошо пишете, для народа…
– Это та, которая все время пыль вытирает? – спрашиваю я.
– Нет, другая. Та уж в земле давно. Так, одна наша, с кухни…
Ну понятно, все сходится. Я пишу литературу для кухарок. Если бы об этом услышали мои враги, оин бы обрадовались.
– Если она здесь работает, то почему сама не пришла?
– Да так как-то… не хватило смелости…
Очередной парадокс. Ведь я заключенная, то есть вообще никто. Ко мне можно относиться как к собаке, хоть генеральный директор тюрем в Польше и твердит на каждом шагу, что мы тоже люди. Но пока, кажется, так считает только он. К счастью, мне пока не пришлось столкнуться с особой жестокостью тюремного персонала по отношению ко мне. Но, во-первых, в женских тюрьмах менее суровый режим, а во– вторых, Иза мне проговорилась, что они заранее знают, к кому следует относиться свысока, а с кем быть более снисходительными. Это «свысока» часто означает так называемую «темную». Иза рассказала мне о разразившемся недавно громком скандале, когда надзиратели во время шмона избили заключенного, а потом, чтобы он не пожаловался на них, заперли в карцер, пока не пройдут синяки от побоев. Но тот несчастный нашел способ освободиться от своих мучителей – покончил с собой. Началось расследование, благодаря которому все и вышло наружу.
Меня занесли в группу нетипичных преступников, в акте было записано – «личность высоконравственная». Но наручники все-таки надели. Странное это было чувство, я бы сказала, скверное. Я чувствовала страх, смущение и неуверенность, не представляя, как вести себя в такой ситуации. На меня только один раз надевали наручники – когда выводили из зала суда после оглашения приговора. Во время поездки в тюрьму в Кованец их уже не было. А этот Кованец… Хорошенькое название… теперь оно всегда будет ассоциироваться у меня с тюрьмой. Вокруг сплошные поля и шеренга высоких деревьев вдоль дороги. Мрачный комплекс строений, окруженных мощной стеной, виден уже издалека. До ближайшего поселка шесть километров, а поблизости никаких других построек, кроме нескольких двухэтажных домиков-близнецов из бетона. В них живет тюремная обслуга. Иза занимает там одну из квартир…
Странную сцену пришлось мне наблюдать сегодня вечером. Солнце уже заходило, и сквозь решетку и жуткую розовую занавеску пробился его последний луч, преломившись на той стене, у которой стоят таз на треноге и ведро с водой. В это время Маска со своей подружкой проделывали свои ежедневные омовения. Теперь нас в камере только трое. С Агатой все понятно, а пани Манко расхворалась окончательно – классический грипп с высокой температурой. Ее забрали в тюремный госпиталь, чтобы нас не заразила. Я наблюдала за парочкой сверху, со своих нар. На них были тюремные рубашки из грубого полотна на лямках. Они мылись по частям. А как еще можно мыться в тазу с холодной водой?
Потом они поставили таз на пол, и та, что с конским хвостом – сейчас ее волосы были распущены, – села на табурет, а Маска принялась мыть ей ноги. Но как она мыла ей ноги! Сними эту сцену талантливый режиссер, она могла бы стать одной из самых прекрасных любовных сцен в мировом кинематографе. То, как нежно одна из женщин держала в своих ладонях ступню другой, описать просто невозможно. Поцеловав пальцы, она принялась сосредоточенно поливать их водой из железного кувшина. Затем еще раз намылила эту ногу и снова полила водой. То же проделала с другой. В какой– то момент сидящая девушка склонилась к ней, ее лицо закрыли длинные волосы цвета оленьей шерсти, на которые падал предзакатный луч солнца. Мне хорошо были видны эти ее волосы и обнаженная рука, которую она протянула в направлении подруги. Коснувшись ладонью щеки Маски, она погладила ее, а та прижалась плечом к ласкавшей ее руке. Это длилось одно мгновение, пока луч на стене не переместился, – и вся романтика внезапно пропала. Передо мной снова были только две бабы, мешающие спать своими стонами.
Беседа с Изой
Как это – укусила его за руку? Ты шутишь! – Он мог довести меня до такого состояния, когда я теряла контроль над собой. Была готова броситься на него и бить чем попало… Разумеется, до этого дело не доходило…
– Но укусить ты его смогла.
– Мы оба были потрясены этим. Впрочем, он тут же ушел…
– Но в данном конкретном случае чего ты все-таки добивалась? Чтобы он сказал на телевидении, что ты великая писательница?
– Ему казалось, что, если он свалит меня в одну кучу с посредственностями, если отдаст меня на съедение, другие подумают что он – объективный критик. Но это ему все равно не помогло. А мне сильно навредило. Если бы он хвалил меня, это бы не имело значения, но в этом случае… Коль о ней так говорит собственный муж, дело плохо….
– А может, он сделал это специально, чтобы другие запротестовали и встали на твою защиту?
– Нет, настолько наивным он не был. Он сделал это ради себя…
Знала ли я своего мужа? Вряд ли. Я не понимала до конца, каким он был, о чем думал. О чем думал вообще и что думал конкретно обо мне. Со всей определенностью можно было сказать только одно – для него я была чем-то важным в жизни. Но что это означало? Ведь это я установила пресловутое эмоционально-постельное разграничение. Все, что касалось чувств, было моим царством. Ей я отдала на откуп то, другое. А как было на самом деле? Боюсь, что этого никто из нас троих не знал. Единственным удовлетворенным человеком в нашем треугольнике была она.
Потому что ни я, ни Эдвард не могли быть довольны такой ситуацией – мы только терзали друг друга. Он терзался даже больше, чем я, – его совесть была нечиста. А я… Я с детства мучилась чувством вины.
Однажды – кажется, мне было тогда лет пять – я прокралась в церковь, хотя знала, что одной мне туда ходить нельзя. Обычно я ходила на службу с бабушкой, но прихожане закрывали от меня алтарь. Теперь же я увидела во всей красе эту золотую стену, за которой находилась сокровищница с дарами. Снизу и до самого верха тянулись ряды икон разных размеров. Это выглядело так богато…
Некоторые иконы были осыпаны драгоценными камнями, другие были в серебряных или золотых окладах, сплошь покрытых растительными орнаментами.
Горело множество свечей, язычки которых причудливо извивались, стелясь и выстреливая вверх. Лица святых сурово и строго взирали на меня, я совсем оробела. В их глазах я видела осуждение маленькой девочки, без спросу вторгшейся в их владения и нарушившей их покой. Меня так потрясли их лики, что я вдруг расплакалась. Стояла перед Царскими вратами, парализованная страхом, не в силах пошевелиться, и рыдала все громче. К счастью, мой плач услышала бабушка.
С некоторого времени библиотеку посещает странное существо, которое с трудом можно назвать человеком, а тем более женщиной. Волосы на голове сбиты в фиолетовый кок, вечно размазанная тушь черными кругами залегла под глазами. Вот уж действительно, свободолюбие иногда заходит здесь слишком далеко. Новый генеральный директор, отдавая свои распоряжения о послаблениях тюремного режима, наверняка не предполагал, какие последствия они за собой повлекут. В соответствии с распорядком заключенные, желающие воспользоваться в свободное время библиотекой, должны приходить сюда группами, а эту красавицу как будто ничего не касается. Она приходит, когда ей заблагорассудится. Встает у стены и глазеет на меня. Иногда это длится часами, порой до окончания свободного времени заключенных. Я стараюсь не сидеть за конторкой, скрываюсь за стеллажами, но когда слишком долго не появляюсь, бедняга подходит ближе и начинает меня высматривать – вытягивает шею, встает на цыпочки или приседает на корточки. И становится все нахальней. В последний раз она даже пошла за мной за книжные полки.

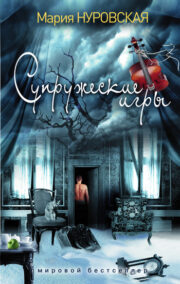
"Супружеские игры" отзывы
Отзывы читателей о книге "Супружеские игры". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Супружеские игры" друзьям в соцсетях.