Я так никогда и не рассказала Эдварду о моих ощущениях во время этого почти ритуального акта потери девственности. Я теряла девственность, уже не будучи невинной, быть может, за это меня и настигла кара. Под утро я наконец пришла в себя, постепенно осознавая, что со мной произошло и где я нахожусь. Рядом, повернувшись ко мне спиной, спал Эдвард. Я была в растерянности, не зная, как мне поступить и что делать – то ли одеться и убежать, пока он спит, то ли остаться и примириться со своим положением. По отношению к нему я не испытывала никакой неприязни, никакого зла. То, что произошло, касалось больше меня, чем его. В ту ночь я познала то, что было уделом всех нормальных женщин. Они как-то умели со всем этим справиться, и для них это не становилось таким кошмаром, как для меня. Да, но перед этим никто не давал им наркотиков… Этого и не требовалось… Я была непохожа на других женщин, но, как и они, любила мужчину и не хотела его потерять. В результате я прижалась к плечу Эдварда и заснула…
Освободившись таким неожиданным образом от своей проблемы, я наконец избавилась и от ночных бдений, и все же чувствовала нечто вроде угрызений совести. Из разговоров в камере я поняла, что у Агаты открытый перелом бедра и ее перевели из тюремного госпиталя в Варшаву, потому что наш доктор не взял на себя ответственность лечить столь сложную травму. Наказание, которое она понесла за испытанное мной той ночью унижение, показалась мне слишком жестоким. Стоило ли вообще в этом случае говорить о вине и наказании? Агата была неинтересна как женщина. У нее не было шансов понравиться хоть какому-то мужчине, поэтому она обратилась в ту сторону, где могла бы ожидать благосклонности. Только женщина может до конца понять другую женщину и проявить к ней сердечность и теплоту. Чувственность мужчин иного рода – она всегда на грани жестокости, ведь секс – не что иное, как форма агрессии.
Возможно, наши супружеские проблемы возникали оттого, что мое посвящение во взрослую жизнь проходило не так, как желала того природа. Сначала должна быть боль, сопутствующая всякому рождению. Вот я и заплатила за то, что, любя мужа, не сумела избавиться от страха перед его физиологией, перед его требованиями и нежеланием считаться с тем, чего бы я хотела для себя. Как-то разозлившись, Эдвард сказал:
– Ты разве не знаешь, что у вставшего члена нет совести?
– Мне не удалось узнать об этом вовремя, – ответила я.
Все случилось во время каникул, за год до окончания школы. Я сидела в своей светелке наверху и смотрела в окно. А неподалеку работали студенты, проводили какие-то исследования. Борисовка почему-то представляла интерес для разного рода исследователей – этнографов, биологов, метеорологов, археологов, – которые вечно крутились в нашей деревне. Он был из группы археологов. Они вырыли поблизости от дома батюшки огромный котлован, оградили его колышками и чего-то там искали, беспрестанно шастая туда и обратно к колодцу – им нужна была вода, много воды. Носили ведро за ведром. Было жарко, он скинул рубаху и расхаживал голым до пояса. Тело у него было крепкое, загорелое, оливковый цвет кожи красиво оттеняли светлые волосы. В очередной раз пробегая под моим окном, он остановился и, задрав голову, крикнул:
– Девушка в окошке, спускайся к нам.
– Не могу, – рассмеялась я, не испытывая при этом никакого смущения.
– Почему не можешь?
– Бабушка не пускает.
Он сделал неопределенный жест рукой:
– А может, попросим ее, чтоб отпустила?
Я отрицательно покачала головой.
Вскоре мы столкнулись с ним на тропинке. Я уже не чувствовала прежней свободы, первым моим желанием было развернуться и убежать. Но это показалось мне неприличным. Я не хотела, чтобы он счел меня дикаркой. Студент поставил ведро с водой на землю и, подняв мое лицо за подбородок, заглянул в глаза.
– Зеленоглазая, – шепнул он. – Скажи, как тебя зовут?
– Дарья.
– У тебя самое красивое имя на свете!
Потом бабушка долго допытывалась, чего от меня хотел этот студент.
– Спрашивал дорогу, – буркнула я.
Но она на этом не закончила своих расспросов:
– А чего он так заглядывал в твои глаза?
– Оттого, что стояла как немая! – рявкнула я и бросилась вон из кухни.
Еще пару раз мы так сталкивались, а потом в один из вечеров – солнце уже почти уже закатилось за деревья – он взял меня за руку и куда-то повел. Я, не сопротивляясь, шла за ним. Мы оказались на старом погосте за приходским домом, а затем он влез через окошко в деревянную церковку и отодвинул засов двери, впустив меня внутрь.
В церкви царил полумрак. Последние лучи заходящего солнца, пробивавшегося сквозь щели в рамах, падали на пол золотистыми стружками.
– Дарья, – ласково прошептал он. – Сними платье.
Я отпрянула на шаг, но студент, взяв мое лицо в ладони, снова притянул к себе:
– Дарья, я не обижу тебя. Сделай, о чем я прошу.
Я послушалась и стянула платье через голову.
Я стояла посреди помещения, в котором пахло пылью и подгнившим деревом, прикрывая руками обнаженную грудь, как будто мне было холодно. Сердце сильно билось. Он тоже разделся. Медленно приблизился и обнял меня. Это было так необыкновенно. Я почувствовала, что между нами что-то зарождается, и это будило во мне какое-то неясное любопытство, даже восхищение. Он встал на колени и потянул меня вниз. Целовал мои груди. Прикосновения его губ пробуждало во мне наслаждение, мне становилось так сладко, до изнеможения. Потом мы лежали на его куртке, он ласкал губами мою кожу, его поцелуи были нежны, как прикосновения крыльев бабочки. А я казалась себе неизвестным материком и не узнавала себя в этой обнаженной девушке. Внезапно мне захотелось чего-то большего, чем только поцелуи. Однако я не знала, как сказать ему об этом, потому что была неопытна и растерянна в своем вожделении. Он понял все без слов.
– Нет, Дарья, – зашептал он. – Это было бы жестоко, ранило бы тебя… Сделаем иначе…
И раздвинув мои бедра, он коснулся меня языком. Мое тело отдавалось его ласкам, ждало их, начинало даже требовать их. Я становилась все нетерпеливей, а потом на секунду оказалась в состоянии невесомости. Легкость, самая чудная легкость на свете и такое же внезапное возвращение на землю и внезапный стыд.
– Ничего не стесняйся, Дарья, – сказал он. – Наша любовь невинна и чиста. Пускай та, чужая, будет грязной…
Из того, что говорила мне Иза, я поняла, что бывшая возлюбленная Агаты была хороша собой. Но, несмотря на это, она связалась с этим чудовищем и, выходя из тюрьмы, сокрушалась, что какое-то время они не смогут видеться. Довольно долгое время. Агате оставалось отсидеть еще два года, а поскольку она была рецидивисткой, нечего было и мечтать о сокращении наказания. Удивительно, но в этом странном союзе двух женщин именно Агата была неверна. Она ходила на сторону, а возлюбленная упрекала ее, порой доходило до настоящих скандалов. А когда та выходила на волю, они плакали, обнявшись.
– Я не смогу посещать тебя, Ага, – говорила та. – По своей воле я ни за что не переступлю порог этого заведения, но ты всегда будешь в моем сердце.
И снова в рев. Что за сцена!
Возможно, там, на воле, мне трудно было бы все это понять. Теперь я знаю, что жизнь порой умеет находить потрясающие развязки. И удивительные. То, что я чувствую по отношению к Изе, нельзя назвать сексуальным желанием. У меня никогда не было таких склонностей, тем более после истории с Агатой. Это было бы просто невозможно. Секс для меня всегда был трудным делом. Я не умела справляться с ролью любовницы, которая на первый взгляд не кажется такой уж трудной. Многие женщины делают вид, что испытывают оргазм, ради сохранения брака. Особенно когда у них есть дети. Я не умела притворяться, а когда пыталась, все тут же раскрывалось. Эдвард вскакивал с кровати, выбегал в другую комнату и нервно курил в темноте. А однажды как сумасшедший вылетел из дома среди ночи и сел за руль. Я боялась, что он разобьется. К счастью, вскоре он вернулся целым и невредимым. Я выбежала в прихожую, и мы прильнули друг к другу.
– Почему все так? – услышала я его полный горечи голос.
– Я не знаю.
Уж конечно не потому, что я его не любила, и не потому, что он часто вызывал во мне презрение как человек. Особенно в тех случаях, когда из боязни за себя брал свои слова обратно. Хвалил какую-нибудь книжку, говорил о ней с энтузиазмом, а как только понимал, что автор непопулярен в диссидентских кругах, писал разгромную статью. Таков уж он был, к сожалению. Необычайная эрудиция, блистательный ум, по-настоящему талантливый человек, но тряпка. Вполне возможно, что его несчастье заключалось в том, что он родился здесь. На Западе ему не пришлось бы выбирать между карьерой и собственной совестью. А совесть у него и вправду была обременена неблаговидными поступками… Я старалась не думать об этом в моменты затишья, когда наши взаимоотношения были сносными, то есть когда ни один из нас не чувствовал себя обиженным до глубины души на то, что сказал другой. Он орал, что женился на стерве, которая живет с ним только потому, что каждой бабе нужно иметь рядом хоть какого-нибудь мужика. Я обзывала его конформистом и прихвостнем. Потом мы мирились. Бывало, мы вместе лежали на диване, каждый читал свою книгу. Время от времени мы обменивались замечаниями по поводу прочитанного. Я обожала такие минуты. Они укрепляли наш союз. По-своему я была благодарна Эдварду. Когда мы познакомились, я была мягче пластилина, он мог бы лепить из меня все что угодно. И кажется, он не причинил мне вреда, скорее помог найти себя. Как он говорил, «придал бриллианту достойную оправу». Разумеется, это было преувеличением – не такой уж я и бриллиант. Подумаешь, написала пару книжек, которые охотно читали люди…
Мне кажется, что последняя наша встреча с Изой стала переломной. До этого времени мы строго придерживались своих ролей – она задавала банальные вопросы, я давала на них банальные ответы. И вдруг, глядя мне в глаза, со своей вечной сигаретой в тонких пальцах – я уже почти смирилась с тем, что она курит как паровоз, – она спросила:

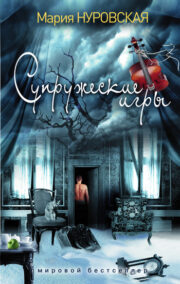
"Супружеские игры" отзывы
Отзывы читателей о книге "Супружеские игры". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Супружеские игры" друзьям в соцсетях.