После обеда я вернулась в библиотеку, разумеется не одна – меня отвела туда Коротышка. На месте Мышастика сидела незнакомая надзирательница. Она хмуро следила взглядом за мной, а когда я скрылась за стеллажами, чтобы хоть на минуту избавиться от ее всевидящего ока, притащилась посмотреть, что я там делаю. Я расставляла книги – оказалось, что не все они стояли по алфавиту. Так я обнаружила «Современный сонник», затерявшийся под другой буквой, и это открытие наполнило меня радостью, как будто я случайно встретила на улице старого приятеля.
Мои мысли все время вертелись вокруг Агаты. Как мне отделаться от нее? Шантаж мог бы стать действенным оружием, только надо воспользоваться им раньше, чем она опять захочет напомнить о себе. Я должна застать ее врасплох. И не медлить слишком долго. Однако я не могла вести с ней разговор при свидетелях, а отозвать ее в сторонку и поговорить с глазу на глаз – шаг небезопасный.
Вечером, когда после поверки Агата выскользнула из камеры, я переживала страшные часы. Надзирательница погасила свет, и камера погрузилась в полную темноту. Как назло, фонарь за окном не светил – видно, снова перегорела лампочка. Это погружение во мрак и так было не особенно приятно, особенно если учесть, что свет в камере в случае чего включить было невозможно – выключатель находился снаружи. Теперь же погружение в кромешную темноту казалось еще более зловещим. Нервы были напряжены до предела. Я с ужасом ожидала возвращения Агаты. Мое тело одеревенело и стало непослушным, будто его связали веревками.
Агата вернулась после полуночи. Одновременно с ее тяжелой поступью послышался скрежет ключа в замке – значит, проводив Агату, надзирательница заперла камеру. От напряжения мои руки сжались в кулаки – как будто это могло чем– то помочь. В горле пересохло, я с трудом могла проглотить слюну. А она вскарабкалась на свои нары и повернулась лицом к стене – в темноте были видны очертания ее мощной спины. И все же я боялась заснуть – до утра было еще далеко. Рассвет я встретила с облегчением. В это утро я не пошла в библиотеку, пользуясь своей привилегией оставаться в камере, когда все остальные уходили на работу. Сквозь дремоту я слышала все, что происходило снаружи: шаги в коридоре, какую-то возню, голос диктора по радио. Берушами я решила больше никогда не пользоваться. Если бы не они, быть может, в ту злосчастную ночь я бы услышала, как Агата лезет ко мне на нары. Учитывая ее вес и тесноту в камере, наверняка было бы слышно. Странно, что эта громадина выбрала себе место наверху – каждодневное лазанье туда и обратно было для нее явно делом нелегким. Может, она считала это своего рода гимнастикой? Мысленно я задавала себе вопрос: можно ли вообще воспринимать ее как женщину? Она представляла собой некий гибрид, ошибку природы, смешение полов, даже видов. Действительно, после всего, что случилось, ее с трудом можно было называть человеком. А уж по сравнению с Изой она вообще казалась чудовищем. Иза была женщиной в полном смысле этого слова, в этом у меня не было ни малейшего сомнения. Она была женщиной в большей степени, чем я, – ее женственность будила воображение. Иза была явлением, вспоминать о котором можно было часами. Ее лицо, эти необыкновенные рысьи глаза… ее улыбка…
Странно, она столько курила, а зубы у нее были белые, красивые, ровные. Интересно, как в дальнейшем сложатся наши отношения… Иза была умна, интеллигентна, правда, употребляла похабные словечки, отчего меня немного коробило. Но, с другой стороны, в этих стенах не предусматривалось ведение салонных бесед. Это показалось бы искусственным, даже смешным. Я тоже временами выражаюсь, прямо скажем, языком не слишком изысканным. Если бы кто– нибудь подслушал мои мысли, то он пришел бы в ужас. Но в этом мрачном месте все мгновенно становилось гадким.
Женщины меня восхищали, но только настоящие, осознающие свою женственность. Красивые, пахнущие духами. Обычно они же и смущали меня. Я обходила их стороной, стремясь к обществу подобных себе, обыкновенных. Кто– нибудь мог бы возразить: писательница не может считаться обыкновенной женщиной. Да, но не такая писательница, как я. Я не творила действительность, я только описывала ее, будто совсем не имела воображения. Продавала по кусочкам то, что имела на продажу, каждый раз становясь из-за этого немного беднее. Может, поэтому меня и не хватало на личную жизнь. Любое сильное чувство, которое я не отдавала бумаге, казалось мне пустой тратой материала. Мне вполне хватало чужой жизни, чужой любви, чужого материнства.
Я панически боялась забеременеть, и, к счастью, сия чаша меня миновала. Не миновала она, к сожалению, мою лучшую подругу по школе. Мы добирались с ней на занятия по нашей узкоколейке.
В школе Наталья была очень худой, но уже тогда у нее были пышные волосы, заплетенные в две толстые косы. А когда подросла, превратилась в очень красивую девушку. Я присутствовала на ее венчании в церкви – их венчал еще отец Феодосий. Это было до того, как он вышел на пенсию. Рядом с ней муж казался невзрачным, но, похоже, она его сильно любила. Однажды, где-то в конце лета, я увидела в окно своей светелки, как по дорожке сада идет крестная мать Натальи. Помню, очень удивилась, что на плечи ее был наброшен большой черный платок – и это в такую жару! А потом бабушка позвала меня вниз. Оказывается, Наталья скоропостижно скончалась. Обе женщины что-то скрывали, приводили какие-то неясные причины, и только позже я узнала, что она умерла от внематочной беременности. А тогда я пошла к ее родителям – существует такой старинный белорусский обычай: причитания над умершим. В избе с затемненными окнами, на столе, покрытом белой простыней, лежала Наталья, в изголовье горели тонкие свечи. Она выглядела спящей. Особенно тронули меня ее неподвижные босые ступни. Она всегда спешила, ходила так быстро, что я не могла порой за ней угнаться.
По углам расселись старухи, которых всегда созывали в случае чьей-либо болезни или смерти, и они слетались как стая черных, пророчащих несчастье птиц. Они сидели в черных платках, завязанных под подбородком, и черных накидках, из которых выглядывали морщинистые шеи. Их беззубые рты беспрестанно двигались, словно в молчании пережевывали вечную жвачку жизни. Наконец одна из них завела поначалу тихим голосом:
– Отлетела наша голубка, беззвучно, не загулила даже на прощанье. Такая кроткая, такая смирная…
В избе повисла тишина, которую нарушало только потрескиванье плавящегося воска, когда пламя свечки неожиданно выстреливало вверх.
– Вечный ей покой, да снизойдет на нее вечный сон, да упокой ее душу, – снова зашептала первая старуха.
– Упокой Господь ее душу, – проговорила вторая.
– Ее глазоньки, – вторила третья.
– Ее ушеньки, – вступала четвертая.
Потом снова первая:
– Чтобы серденько больше не страдало…
– Чтоб ушенькам больше не слышать, – заводила вторая.
– Чтоб глазонькам больше не плакать, – заканчивала третья.
Странное впечатление производил на меня этот заунывный плач, в нем было что-то языческое. Этот обычай, как мне показалось, не имел ничего общего с религией. Я вышла из избы, перед глазами еще долго стояли неподвижные босые ступни.
Мои разговоры с Изой были как внезапный полет в другой мир. Я могла слушать ее, любоваться ею, и это снимало внутреннее напряжение.
Вот уже несколько дней я ходила в полубессознательном состоянии от недосыпа, жила в вечном страхе оттого, что Агата может застать меня врасплох во время сна.
Мне еще не представлялась возможность предостеречь ее каким-либо способом от такой попытки. Ничто, правда, не предвещало беды, но я старалась соблюдать осторожность. Во время наших общих купаний я становилась под душ как можно дальше от нее, стараясь не оказаться в каком-нибудь слишком укромном уголке, где она могла бы меня настичь. Я боялась как-нибудь невзначай спровоцировать ее. Она, в свою очередь, делала вид, что не обращает на меня внимания. Постепенно во мне крепла надежда на то, что она просто отказалась от дальнейших поползновений или, возможно, предметом ее интереса стала какая-нибудь новенькая. Тем более, как я заметила в последнее время, она не требовала услуг от соседки с нижних нар. И все-таки наступила ночь, когда сквозь сон я услышала легкий шум и через минуту увидела лапы Агаты, цеплявшиеся за край моих нар. Сердце прыгнуло к самому горлу, в висках застучало. Нельзя ни в коем случае позволить ей забраться наверх, где справиться с ней я уже не смогу. Нельзя было терять ни минуты. Вскочив, я уперлась ногами в ее плечи и изо всех сил толкнула. Мне удалось – руки Агаты отцепились от края моих нар. Я услышала глухой стук внизу, после чего наступила тишина. Спустя некоторое время в темноте послышался короткий стон. Затем стон повторился.
– Веслава, помоги! – наконец простонала Агата.
Вероятно, она обращалась к той девице с конским хвостом.
– Веська!
Скрипнули нижние нары, заспанный голос спросил:
– Агата? Чего тебе? Что стряслось?
– Свалилась, давай помоги.
Внизу все пришло в движение, Маска тоже проснулась. Теперь они вдвоем пытались поднять Агату, которая выла от боли. Позвали надзирательницу.
– Кажется, я сломала ногу, – сказала Агата страдальческим голосом. – Встала в парашу и споткнулась.
Надзирательница привела из тюремной больницы двух санитаров с носилками. Им пришлось изрядно помучиться, прежде чем удалось взгромоздить Агату на носилки. После чего дверь с грохотом захлопнулась – здесь никого не волновало, что чужой сон может быть нарушен.
В конце концов произошло то, что должно было рано или поздно произойти. Я познала полную близость с мужчиной. Тогда мы еще не состояли в браке. Эдвард собирался в Тревир[10] на симпозиум и решил взять меня с собой.
– Полюбуешься по дороге виноградниками, – сказал он. – Да и сам Тревир – красивейший город, там много следов романской культуры….
Впрочем, долго уговаривать меня не пришлось, я и сама загорелась поездкой.

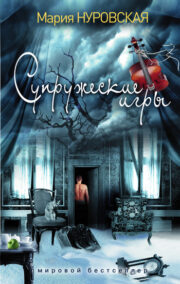
"Супружеские игры" отзывы
Отзывы читателей о книге "Супружеские игры". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Супружеские игры" друзьям в соцсетях.