Но, может быть, какие-нибудь другие, не известные ей отношения существовали между ним и той, перед которой он стоял на коленях? Быть может, он и не нарушал своей клятвы верности? Так говорило сердце благородной женщины, и эта мысль чудесным образом укрепила ее больную, измученную душу.
– Нет, нет, это невозможно! – повторяла она. – Это неправда! Скорее погибнут земля и небо, чем мой Сади бросит меня! Как могла я поддаться обману? Не Лаццаро ли устроил все это, чтобы мучить меня и вырвать из моего сердца Сади? Но ты ошибся в своем расчете! Ты не знаешь истинной любви! Хотя ты и показал мне свидание, которое заставило меня содрогнуться, лишило меня сознания, все же любовь победила сомнение. Не мое дело знать, что происходило между Сади и той знатной госпожой. Мое сердце говорит мне, что Сади всецело принадлежит мне, одной мне, что он никогда не оставит меня и не променяет на другую! Пусть все обвиняют и чернят его, я ни за что не оскорблю его своим подозрением! – воскликнула Реция с прояснившимся лицом. – Он непременно придет освободить меня, как только узнает от Сирры, где меня найти! Прочь черные подозрения, прочь мрачные мысли и сомнения! Верь в своего возлюбленного! Надейся на его верность, ожидай свидания с ним и разгони недостойные образы, которые тревожат твою душу! Я твоя, мой Сади! Я твоя навеки! С радостью готова я безропотно перенести все, чтобы только снова увидеть тебя, чтобы только опять принадлежать тебе, одному тебе!
Благородство ее непорочной души одержало победу над всеми сомнениями, над всеми дьявольскими ухищрениями Лаццаро.
Но проходили дни за днями, а Сади все не было. Да и Сирра не приходила к ней более!
Маленького принца от нее взяли. Теперь она была совершенно одна, всеми покинутая!
Но вот однажды вечером она услыхала раздирающий душу крик о помощи, неизвестно откуда доносившийся. Часто, и днем и ночью, раздавались стоны и вопли закованных в цепи страдальцев, но такого ужасного крика Реция никогда еще не слышала.
Откуда же выходили эти ужасные стоны? Бедная Реция дрожала всем телом. Что такое происходило там, во дворе? Неужели никто не мог явиться на помощь несчастным, неужели никто не мог помешать и наказать дервишей-кадри и их начальников за насилие? Неужели не было над ними судьи? Долго ли будут эти люди совершать злодейства и поступать по своему произволу, не будучи никем привлечены к ответственности? Разве могущество их так велико, что никто не осмеливается осудить их поступки и потребовать у них ответа?
В темницах томились в оковах жертвы религиозной злобы, обреченные на голодную смерть! Это были жертвы, возбудившие подозрение и ненависть Шейх-уль-Ислама. Из камер слышались вопли и стоны. Трупы выносились глухой ночью из Чертогов смерти и зарывались где-нибудь на дворе.
Но что означал этот странный крик о помощи, этот вопль ужаса? Реция ясно слышала, что он выходил со двора.
Уже стемнело. Красноватый мерцающий свет падал на потолок той камеры, где находилась Реция.
Что совершалось на дворе под прикрытием ночи? Она должна была узнать, в чем дело! Ужасные звуки отогнали от нее сон!
Она приставила к окну стул из смежной комнаты, где так долго находился принц Саладин, и влезла на него. Теперь она доставала до окна и могла видеть, что происходило во дворе. Ее взорам представилось такое страшное зрелище, что она в ужасе отскочила назад.
На дворе совершался суд над каким-то несчастным. Это он испускал пронзительные крики о помощи.
Восемь дервишей с зажженными факелами составляли круг. Трое остальных сорвали с софта Ибама, так как это был он, одежду до самого пояса. Затем веревками привязали его руки, ноги и шею к деревянному столбу так крепко, что он не мог шевельнуть ни одним членом, они привязали его грудью к столбу, так что, казалось, несчастный обнимал столб.
Затем трое дервишей схватили палки, и через три удара кровь показалась на спине софта.
Ибам должен был сознаться, что он только играл роль сумасшедшего и все слова его были сказаны им из коварства, злобы и презрения к вере. Но он не хотел этого говорить, и за это ужасный приговор был исполнен. На дворе Чертогов смерти – «за измену и обман он должен был быть подвергнут бичеванию», так гласил приговор Шейха-уль-Ислама и его советника. Кровь текла со спины несчастного страдальца, но удары сыпались на израненную окровавленную спину.
Бледное лицо софта было обращено к небу, словно он взывал о помощи и защите.
Но, казалось, вид обнаженного, окровавленного тела только возбуждал в палачах злобу и бешенство.
Реция в ужасе закрыла глаза.
Дервиши довершали казнь уже над мертвым!
Софт Ибам уже отошел к праотцам, когда его наконец отвязали от позорного столба.
Дервиши наклонились над ним и, убедившись в его смерти, дали знать Шейху, что софт был подвергнут бичеванию, но не мог пережить его. Шейх же доложил Баба-Мансуру и его советнику, что софт умер и вместе с ним смолкли и его смелые речи.
VIII
Лжепророчица
Перед домом софта Ибама, обвиненного в ереси, которого, как говорили в народе, взяли для того, чтобы привлечь к ответственности, ежедневно собирались толпы людей: одни желали видеть чудо, другие делились друг с другом своими мыслями о воскресшей из мертвых.
Со всех частей города стекались горожане к пророчице и спрашивали ее совета в разных делах. Собравшиеся перед домом люди рассказывали, что она слово в слово знает все суры[20] и часто ссылается на них в своих приговорах и советах. Часто она дает совершенно неясные, непонятные ответы, а иногда предсказывает удивительные вещи.
Весть о воскресшей из мертвых девушке скоро разнеслась повсюду и дошла до ушей слуги принцессы.
Грек остолбенел при этом известии, ему невольно вспомнился призрак Черного гнома.
Вечером он выбрал свободное время, чтобы отправиться к дому возле большого минарета. Перед домом он застал толпу. По большей части это были старики, и притом из беднейших слоев.
– Скажи-ка мне, – обратился Лаццаро к одному старому носильщику, который стоял в стороне с несколькими другими, – здесь ли находится чудо, восставшее из мертвых?
– Да, здесь, ты найдешь это наверху! Ступай и подивись чуду!
– Кто она такая и как ее зовут?
– Этого я не знаю! Да и что нам в ее имени? Она – пророчица, этого достаточно! – отвечал старик.
– Можно ли теперь ее видеть?
– Да, там наверху еще много народа! Когда она говорит, кажется, будто звучит голос с неба, – продолжал старик, снова обращаясь к своим знакомым.
Лаццаро вошел в дом. Там была страшная давка. Каждый хотел видеть чудо, многие желали обратиться с вопросами к пророчице. Большинство же было привлечено любопытством. Кое-как добрался он до лестницы. Сверху донизу стеной стояла толпа. Никто не мог двинуться ни взад, ни вперед.
Удивительно еще, как деревянная лестница могла выдержать такую тяжесть.
Лаццаро был всегда находчив в подобных обстоятельствах. Употребляя в дело свои локти, он именем светлейшей принцессы приказывал дать ему дорогу. Многие, следуя этому приказанию, сторонились перед ним, остальных же он бесцеремонно отталкивал в сторону и таким образом благополучно пробрался через толпу наверх. В сенях тоже было тесно, но все же не так, как на лестнице, и пройти здесь греку не стоило ни малейшего труда.
Дверь комнаты, где помещалось чудо, была открыта. Она, казалось, даже была снята, так что не только можно было беспрепятственно входить и выходить в нее, но и видеть саму комнату.
Лаццаро пробрался к дверям.
В комнате, на ковре, стояли на коленях десяток или более женщин и мужчин; по обе стороны пророчицы, но в некотором отдалении от нее, находились две свечи, так что благодаря темному ковру, спускавшемуся сзади с потолка и, по-видимому, делившему комнату на две части, да еще и без того царившему в покое мраку, нельзя было хорошо рассмотреть пророчицу.
По обе стороны около свечей стояло по ходже, или слуге имама; казалось, они наблюдали за порядком и были здесь сторожами.
Перед спускавшимся сверху ковром, на чем-то высоком, сидело или стояло чудо, или пророчица. Видна была только ее голова, все же остальное тело было закутано в плащ с богатым золотым шитьем. Он был очень широк и длинен: густыми складками покрывал он всю ее фигуру и закрывал даже тот предмет, на котором она сидела или стояла.
На голове у нее была надета зеленая косынка. Все лицо, за исключением глаз, было закрыто покрывалом. Таким образом, глядя на пророчицу, посетители видели одни глаза; лицо, руки, шея, туловище – все скрывала одежда.
В ту минуту, как Лаццаро подошел к двери и пристально стал смотреть на таинственно укутанную пророчицу, раздался ее голос. Время от времени принималась она говорить, после того как что-то шевелилось сзади ее – это не могло ускользнуть от взора внимательного наблюдателя. Голос ее был чрезвычайно благозвучен и производил неотразимое впечатление на всех тех, кто, стоя на коленях, с благоговением внимал ее речам.
«Зачем желать другого судьи, кроме Аллаха? Он дал вам Коран для отличия добра от зла! А потому не принадлежите к числу тех, которые сомневаются в нем. Слово Аллаха совершенно по своей правде и беспристрастию! Слова его не может изменить никто! Ибо он всеведущий и всемогущий!»[21]
Пророчица снова смолкла, но все еще слышался ее голос, словно серебристый звон колокольчика.
У ног ее Лаццаро увидел разные дары, которые оба ходжи время от времени клали в сторону.
По голосу грек тотчас же узнал Сирру, в свою очередь и она не могла не видеть грека, но ни одно движение ее глаз не выдало этого.
Так это ей дивились все, кто стекался к этому дому? Она теперь уже некоторым образом имела если не власть, то, по крайней мере, сильное влияние на толпу, и он чувствовал, что влияние ее должно было расти, если бы она продолжала обращать свои речи к той части народа, в которой легко было разжечь слепую веру. Влияние ее могло сделаться громадным, это очень хорошо понимал хитрый грек.

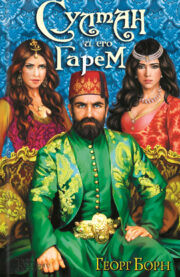
"Султан и его гарем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Султан и его гарем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Султан и его гарем" друзьям в соцсетях.