— «Что делать страшной красоте, присевшей на скамью сирени, когда и впрямь не красть детей…» — забормотал Владимиров, отсчитывая деньги.
Зоя удивленно посмотрела на него.
— Стихи вспомнил к случаю. Местного жителя, — объяснил он, нахмурившись, и тут же схватился за чемодан, собираясь поднять его.
— Не смей! — прорычала она, вырывая у него чемодан. — Ты хочешь, чтоб шов разошелся?
— Так что же я? Не помогу? — удивился шофер. — Калитку держите! Ключи у вас где?
Схватившись за бок левой рукой, Владимиров правой вытащил из кармана ключи и протянул их Зое.
— Постой-ка, — сказала она. — Что болит?
— С чего ты взяла! — с досадой и страхом отозвался он, затравленно блеснув на нее глазами. — За бок, что ли, взяться нельзя?
— А дом-то со всеми удобствами. Ишь ты! — Голос шофера донесся уже из комнаты. — Почем же такой? На лето снимаете или надолго?
— На лето, — ответил Владимиров. — Только на лето.
Комната наверху, с высоким потолком и длинным высоким окном, вся какая-то вытянутая и похожая на скворечник, стала Зоиной комнатой: она втащила туда свой чемодан и сразу же бросила на диван маленький плед. Он смолчал.
— Тебе будет здесь хорошо, — сказала она, оглядывая спальню с новой современной кроватью и японскими гравюрами. — Окно прямо в небо глядит. Свету много.
— Я сам прямо в небо гляжу, — усмехнулся Владимиров.
Он знал срок оставшейся жизни, как люди знают, например, сколько лет им осталось до пенсии или сколько лет займет служба в армии. И это сводило с ума. Он возненавидел тех, которые сообщили ему о его смерти, и про себя с содроганием пожелал им всем оказаться как можно скорее в его положении, а то уж они что-то больно спокойны и больно уверены, что им все можно. Главное было — как можно скорее удрать из этой жующей сосиски Германии и спрятаться дома. Вот здесь, в мягком лепете продрогших кустов, за спиною старухи, которая тащит ведро из колодца. И чтобы коровы мычали в полях. Надсадно, и сорванно, и бесприютно. Теперь мы все вместе. И мы не помрем. А вы там давитесь своими сосисками!
Еще в больнице он почувствовал, что голова идет кругом от злых и мучительных мыслей, но нужно успеть сделать то, что задумал: уехать и взять с собой женщину. Теперь будет все хорошо. Он дома, и женщина с ним. Владимиров вытащил флягу, хлебнул. Кажись, полегчало. Они меня приговорили. Ах, сволочи! Откуда вы знаете, сколько мне жить? В зеркале у двери появилось худое, обтянутое кожей лицо с дикими блестящими глазами. А-а, это ведь я! Ко рту подступило рыданье. Он снова хлебнул. И опять полегчало.
Зоя стояла на скамейке и рвала сирень. Ее осыпало цветами. Она выгибалась, чтобы достать самые пушистые грозди, и пела при этом, слегка задыхаясь:
А ты взглянуть не догадался-я-я!
Умчался вдаль, ка-а-азак степно-ой!
Каким ты был, таким ты и оста-а-а-ался!
Но ты и дорог мне-е-е тако-о-ой!
С того раза, как они с Гофманом были у нее в гостях, она ни разу при нем не пела. Пой, радость моя. Никому не отдам.
Зачем, зачем ты снова повстреча-а-ался,
Зачем нарушил мой по-о-окой!
Он подтянул ей из окна своим слабым, но верным голосом. Она обернулась к нему, улыбаясь:
Зачем опять в своих утра-а-а-атах
Меня хотел ты обви-и-и-инить,
В одном, в одном я только винова-а-ата-а,
Что нету сил тебя забы-ы-ыть!
Мишаня Устинов продолжал находиться в России по несколько странной причине. В середине февраля жилистая и крепкая Ольга Петровна, которую Миша во всем теперь слушался, однажды сказала ему очень строго:
— Не нужно бы, Миша, вам мыться так часто.
Мишаня напрягся: он ей заплатил за дрова.
— А дело не в деньгах! — ответила Ольга Петровна.
Устинов приставил ладони к ушам: он стал хуже слышать с годами.
— Я химик, — сказала Ольга Петровна, — и я столько в своей жизни разных опытов поставила, что вам с вашими книжками и журнальчиками во сне не снилось! А тут вот на прошлой неделе проснулась и думаю: в чем же секрет долголетия?
Мишаня зарделся.
— Но я разгадала. Вы, Миша, хоть раз один слышали, чтоб ненцы с эвенками чем-то болели?
— Но я не знаком, так сказать, ни с эвенком, ни…
— А где же вам было знакомиться? Ведь вы, диссиденты, по кухням сидели!
Мишаня угодливо прыснул в кулак.
— Народы Севера находятся в мало пригодных для жизни и размножения условиях, — холодно заметила его наставница. — А хоть бы чихнул кто хоть раз! Опять же в аулах…
— В аулах?
— В аулах, в аулах! Там даже о гриппе не слышали, вот как!
— Ну, воздух у них и хорошие вина… И женятся на молодых даже в старости…
— Вы это мне, Миша, оставьте: на ком там кто женится! Женился Владимиров вон на молодке! А как заболел! Вы же сами сказали!
Мишаня руками развел.
— Нет, дело не в этом. А в чем, я скажу: нигде, Миша, в этих местах никто не купался и не подмывался! И в душ никогда и ни с кем не ходил!
Устинов отпрянул.
— Среди народов Севера, — ровным угрожающим голосом продолжала Ольга Петровна, — произошла де-мог-ра-фи-чес-кая катастрофа, когда активисты, посланные на льды советской властью, начали пропагандировать среди них гигиену! Как только ненец или эвенк дотронулся до своей кожи мылом с мочалкой, он стал беззащитен, стал легкой добычей для смерти!
— Помилуй нас, Господи! — перекрестился трусливый Мишаня.
Наставница ярко сверкнула глазами.
— Радение, Миша, пока отменяем. На этих раденьях двоих обрюхатили, а мужней жене пришлось сделать аборт! Ей, дуре, теперь от кого и не вспомнить! «От всех, — говорит, — понесла». Что вы с дуры возьмете?
Неожиданно Мишане захотелось пройтись по Латинскому кварталу и съесть эскарго. Или луковый суп. Вообще, хорошо бы в Париж на недельку.
— Вы, Миша, боролись, собой рисковали… — заметила Ольга Петровна.
— Да, я рисковал, — горько молвил Мишаня.
— И жизнь вашу нужно беречь.
— Да что моя жизнь! Разве кто-нибудь вспомнит! Для пасквиля разве какого…
— Вы можете, Миша, не мыться?
Устинов немного опешил.
— Не мыться, не мыться! Я буду вас, Миша, держать у себя, кормить и поить. Лечить, если нужно. И я докажу одну вещь с вашей помощью. Это, как я думаю, тянет на Нобелевскую премию. Открытие века. Вы меня знаете, Миша: плевать мне на премию! В ногах у меня будут валяться, ни копейки не приму! Но мне доказать крайне важно.
— А что доказать?
— Все болезни людей, — хвастливо ответила Ольга Петровна, — происходят от того, что нарушается жировой слой, который на нашу кожу наносится изнутри самим нашим организмом. А мы его, неучи, мылом смываем!
Мишаня стал бледен.
— Да, Миша! Представьте себе! Меня осенила простая разгадка! Не мойтесь — и будете жить так, как в Библии! По сто пятьдесят — двести лет! На здоровье!
При упоминании Библии Устинов опять перекрестился.
— И именно вы мне нужны сейчас, Миша. В вас есть дух протеста. Не зря же вы столько боролись! Вы стерпите все!
— Как долго не мыться? — спросил помрачневший Устинов.
— Чем больше, тем лучше! Ну, год для начала…
— Нет, год не смогу. Ведь за год я…
— Что, Миша? Вас, может быть, запах телесный смущает? — она вдруг раздула звериные ноздри. — И чем вам не нравится, Миша, наш запах? Все люди живут с этим запахом, Миша. А если уж вы такой нежный, извольте: начните себя постепенно умащивать. Вон в древности, в Риме, какой-то философ ни разу не мылся!
— И как же он… это…
— А так же! — победно воскликнула Ольга Петровна. — Масла-то на что? Умастись — и не пахни!
Не пересказать всего, что узнал Мишаня Устинов в тот памятный, снежный и пасмурный вечер. Оказывается, проклятое мыло вместе с горячей водой блокирует выделительную функцию эпидермиса. Специально существующие на человеческой коже железы, которые находчивая Ольга Петровна сравнила со скафандром, сдираются от малейшего прикосновения мочалки, и внутрь человека тотчас проникают враждебные микрообъекты. Ну, много, короче, всего, очень много. В Мишане вскипела вся кровь. А можно ведь и избежать подлых тварей! Ты хочешь мне в печень залезть? Не залезешь! Вот день не помоюсь, и два не помоюсь, и год не помоюсь: куда ты залезешь? Собственное тело предстало воображению в виде государства, располагающего развитой военной техникой, но абсолютно разболтанного ввиду невежества и отсутствия у граждан чувства патриотизма. Ведь если ты любишь свое государство, зачем же его так скоблить да надраивать? Все только бы произвести впечатленье, пустить пыль в глаза! А ты о себе, о себе беспокойся! У них ЦРУ, пусть оно беспокоится!
Так решительно перевернуть свою жизнь, как это сделал Михаил Валерьянович Устинов, можно было только в условиях сельской местности. Мишаня остался у Ольги Петровны.
В июне приехала Катя с ребенком. Владимиров насторожился, увидев годовалую девочку с чужими чертами лица, а Зоя вдруг вся просияла. Он понял причину. Ей проще с чужими, чем с ним. В последнее время у него ничего не болело и даже слабости не было, только вечерами сильно кружилась голова и во всем теле начиналась какая-то неприятная дрожь, как будто внутри ослабели пружины.
Они доживали здесь третью неделю. По утрам Владимиров колол дрова или копался на грядке, однажды покрасил калитку. В сарае у фельдшерицы нашелся мужской велосипед, старый и заржавленный, но он так живо напомнил Владимирову молодость, что он даже погладил растрескавшееся клеенчатое седло. Несколько раз пытался вернуться к роману, садился за стол, но сочинять жизнь вдруг стало казаться каким-то кощунством. Ее нужно жить, эту жизнь, вот и все.

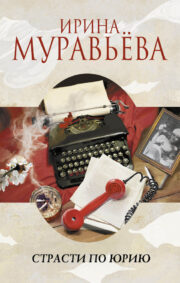
"Страсти по Юрию" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страсти по Юрию". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страсти по Юрию" друзьям в соцсетях.