Германия ей приглянулась: уютно и чисто. Но Вольфган! В ее прошлом было два замужества, были длительные связи и короткие истории, она изменяла и ей изменяли, случались скандалы, случалось и счастье, но ни один мужчина не оставил ее такой холодной, как муж ее — князь, вполне привлекательный, умный и честный. Доходило до смешного: в спальне их стоял огромный телевизор, и вечерами, когда страстный фон Корф наваливался на нее своим по-княжески добротным телом, Зоя тихонько сдвигала набок голову и поверх его ярко-белого плеча продолжала наблюдать за тем, что пробегало по экрану, с тоской отмечая при этом, что Вольфган настроен надолго.
Совместное их проживанье тянулось чуть больше двух лет, пока оба они не почувствовали, что больше не могут. Вольфган переехал в Дюссельдорф, поскольку дела его компании позволяли ему жить где угодно; выросшие дети выбрали для учебы Рим и Париж, и Зоя осталась одна. В Николаеве у нее жила мама, и два раза в год Зоя ездила к маме, одаривала подруг недорогими тряпками, ела мамины пироги, не боясь прибавить в весе, поскольку она никогда ничего не боялась. Но дом с гобеленами ждал, и она возвращалась. Мама была человеком верующим, брала с собой Зою на службу, и вот постепенно княгиня фон Корф, а в прошлом — певица Потапова, почувствовала, что без веры в Бога человек слабеет и словно бы тонет в каком-то дурмане. Как на корабле, если сильно штормит.
Внешне ее жизнь нисколько не изменилась: она следила за домом и садом, продолжала совершенствоваться в немецком языке, ездила навещать детей то в Рим, то в Париж, но внутренне что-то менялось так мощно, как будто тот самый корабль, плывущий незнамо куда, где качало, мутило, рвало, — тот самый корабль, пронизанный снегом, и ветром, и брызгами, причалил, и все успокоилось. И тут этот Гофман, случайный знакомый ее по Москве, привел к ней Владимирова. Он был мешковатым, неловким, приятным. Она протянула руку, ладони их соединились. И взгляд его вдруг стал испуганным. Она привыкла нравиться мужчинам, привыкла к тому, что даже ее голос в телефонной трубке вызывает у них желание, привыкла к настойчивой грубости, к лести, но к страху она не привыкла. Все время, пока они обедали, сидели в библиотеке, разговаривали, она чувствовала на себе его запавшие, испуганно-восхищенные глаза, и ей постепенно самой стало страшно, как будто судьба заглянула в окошко да так и стоит там, среди красных маков.
В Москве, на банкете, она увидела Владимирова по-новому. Он не был испуганным и мешковатым. Его окружали журналисты, литературные дамы, фотокорреспонденты, ему задавали вопросы, на которые он отвечал своим глуховатым и спокойным голосом. Отвечал так, что было понятно, насколько он выше, умнее всех прочих. Его обнимали то звезды кино, а то режиссеры в измятых сорочках, какие-то девочки с лицами мальчиков и мальчики с лицами девочек скакали вокруг него, как воробьи, но он был по-прежнему невозмутимым, немного застенчивым, грустным и тихим, хотя все, что он говорил им тогда, тотчас же бросались записывать.
Наголо обритый охранник, покашляв, вытряхнул на стол содержимое ее сумочки, и тут она заметила, что Владимиров увидел ее и весь просиял. Неожиданное для нее самой желание не отпустить этого человека, владеть им, как домом и садом, — да так, чтобы все вокруг знали об этом, — вдруг сжало ей сердце, как будто тисками. Ночью, после банкета, когда шофер уже увез Владимирова в гостиницу, Гофман, возбужденный и счастливый тем, как прошла презентация, как он все устроил и всех накормил, но, главное, сколько признаний и славы досталось в тот вечер Владимирову, попросил Зою задержаться и, пока официанты убирали со столов, вынимали из огромных ваз букеты и упаковывали оставшуюся еду в пластиковые контейнеры, откровенно спросил ее, что она собирается делать.
— Ты мне его только смотри не обидь, — сурово сказал тогда Гофман. — Жена его боготворила.
Зоя почувствовала себя так, словно ее ударили.
— Да я-то при чем?
— Отлично ты знаешь, при чем.
— Психолог ты, Леня, — сказала она, чтобы что-то сказать.
Гофман быстро заглянул ей в глаза.
— Такие, как он, не ломаются. Они как деревья: сгорают. Он завтра тебе предложение сделает.
— И что? Выходить?
Гофман усмехнулся.
— Вот я никогда не женюсь. Ни за что. Скорее повешусь!
— А мне что советуешь?
— Ты — вольная птица, — сказал строго Гофман. — С деньгами. А он что? Он гол как сокол. Копейки твоей никогда не возьмет и в доме твоем жить, наверное, не станет. Так чем ты рискуешь? Ничем.
На следующее утро она вспомнила слова Гофмана о покойной жене Владимирова и почти буквально повторила ему их, когда они плыли на речном трамвайчике и ветер, волнуясь, как перед экзаменом, играл ее синим платком. Но их объяснение и то, как он вдруг схватил ее за плечи, когда закричал, что его не следует учить, и тут же убрал эти руки, — все это ей больно царапнуло душу, и желание не отпускать от себя этого человека стало еще сильнее. Но в главном она просчиталась. Вернее сказать: не учла она главного. Когда в первый же вечер, после церкви, Владимиров жадно кинулся к ней со своими ласками, кинулся так, как голодные кидаются к куску, и вскоре весь сжался в своем униженье, застыл рядом с нею на пышной постели среди этих белых казенных подушек, сверкающих сквозь темноту, будто льды, она растерялась. Не дотрагиваясь до него, даже не глядя в его сторону, она чувствовала, что лицо его изуродовано гримасой, залито слезами, и ей было жалко его. Но ей и себя было жалко.
Утром, когда она проснулась, Владимирова не было в комнате. Он пил внизу кофе. Расставшись во франкфуртском аэропорту, они не договорились ни о будущей встрече, ни даже о телефонном разговоре. Владимиров уехал в свой пригород на автобусе, а Зоя вернулась домой на такси.
Она открыла дверь, и запах этого старого прекрасного дома встретил ее так, как вернувшегося хозяина встречает счастливая собака. Она побродила по саду. Ей пришло в голову, что все эти месяцы она надувала какой-то огромный воздушный шар и делала это неторопливо, с ребячьей старательностью. Но шар этот лопнул, взлететь не успев. Она не любила Владимирова тою любовью, которая была нужна ему, и не могла принять его любви к себе, потому что если женщина не любит сама, то страсть другого человека, вызываемая ею, сначала приносит сознанье вины, а вскоре за этим — тоску и отчаянье.
Ее разбудил телефонный звонок. Юрий Владимиров был доставлен в отделение «Скорой помощи» в четыре часа утра. Зоя быстро собралась и помчалась в больницу. После операции, подтвердившей диагноз, она с облегчением почувствовала в себе запас того, что называется человеческой порядочностью. Речь больше не шла о любви: Владимиров нуждался в том, чтобы ему помогли дотянуть оставшееся время. Разговор на лавочке испугал ее. Оказалось, что он не собирается ни умирать, ни заканчивать свой недописанный роман, а едет в Россию, будет лечиться там чагой, бороться и просит ее ехать с ним. И, главное, хочет с ней жить как с женою. В этом исхудавшем, приговоренном к смерти человеке проснулась нелепая дикая сила: теперь он обращался к ней так, как будто она действительно была его женою и не смела ему отказать. Он вывернул все наизнанку. Она не любила его — это правда, — но и отказать не могла. Теперь они вместе летели в Россию. Ум и смекалка Леонида Гофмана сказались даже в том, как он устроил для своего любимого писателя Юрия Владимирова летнее жилье. Ясно, что поместить Владимирова в среде постаревших маститых писателей, окружить его призраками, костями, скелетами, мемориальными досками неправильно было и вредно. Гофман рассудил здраво: поселок Переделкино расположен с одной стороны железной дороги, а драгоценный подопечный Юрий Николаич будет жить с другой, к тому же подальше от кладбища. И звону из храма поменьше, и птичек побольше. А если захочет вдруг с кем-нибудь встретиться, так все, кто живые, — они же вот, рядом, рукою подать. Дачку Гофман арендовал у бывшей фельдшерицы, перебравшейся к сыну в Питер. Дачка была чистой, уютной, освободилась недавно, следов запустения не было. При ней была банька. Поставили новый большой телевизор, в спальню на втором этаже с разрешения фельдшерицы затащили из мебельного магазина огромную современную кровать, и тут же старательный, въедливый Гофман распорядился снять со стен лупоглазых медицинских родственников и вывесить пару японских гравюр, решив, что их плавные, чистые линии вернут его другу надежду и веру.
В аэропорту их встретил знакомый шофер, но он тут же сообщил, что на дачу Леонид Генрихович просил добираться, как все: на такси. Ни Зоя, ни Владимиров не догадались, что Гофман просто-напросто боялся везти их на своем транспорте, поскольку теперь это стало опасным: могли ведь, придурки, взорвать, не поняв, кто внутри.
Смеркалось, когда они свернули с большого шоссе на проселочную дорогу, всю в лужах от долгого ливня. Было то время суток, когда вечер еще не наступил, но от воды, застывшей в чашечках цветов, от мокрой травы и от мокрых стволов воздух казался темным, с лугов поднимался густой белый пар, вдали гнали стадо коров, их голос звучал одиноко и сорванно. По дороге им встретилась женщина в темном платке: несла от колодца ведро. Вода выплескивалась на ее босые ноги в резиновых калошах. Шофер ехал медленно: боялся проехать пятнадцатый номер. На веранде углового дома пили чай из большого самовара и пахло дымком и еловыми шишками. Владимиров искоса посмотрел на Зою: лицо ее было напряженно-внимательным. Такие лица бывают у спящих людей, когда они видят свой сон, стремясь все понять в нем и все в нем запомнить. Остановились у зеленой калитки, через которую свешивалась только что расцветшая, упругая сиреневая гроздь. Владимиров устал в самолете и хотел одного: сразу лечь. Он не понимал, почему Зоя молчала всю дорогу, и злился на это: ее непринужденный покой выводил его из себя.
— Приехали! Номер пятнадцать. Вот этот, с сиренью. — Шофер потянулся.

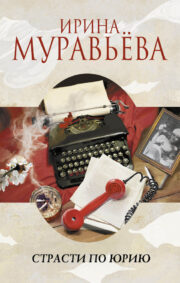
"Страсти по Юрию" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страсти по Юрию". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страсти по Юрию" друзьям в соцсетях.