Гофман твердо взял Владимирова под руку, как только они вылезли из машины. И правильно сделал: Владимиров растерялся. Вокруг синели телекамеры, вспыхивали фотоаппараты, и микрофоны на длинных своих проводах тянулись головками прямо ко рту, как будто хотели ужалить.
— Подождите, господа, подождите, не все сразу, — заботливо бормотал Гофман и твердой рукой вел Владимирова на председательское место за длинным столом. — Успеем, успеем… Вся ночь впереди…
— Мы что, на всю ночь здесь? — опешил Владимиров.
— А как же! Ведь бал еще будет. Придет Маргарита, начнется веселье…
Рослые бритоголовые телохранители заглядывали в сумки входящих и всем говорили: «Простите, порядок». Людей становилось все больше и больше. Наладили свет, подключили микрофоны, какая-то бойкая девушка с ласковой фамильярностью поправила на Владимирове галстук.
Презентация четырехтомника началась. Посыпались вопросы.
— Юрий Николаевич, вот вы уже который год живете на чужбине. Прижились ли вы там? Не гложет ли вас тоска по Родине?
— Я не считаю Германию чужбиной в том негативном смысле, который вы сейчас вложили в это слово, — старательно отвечал он. — Я живу в предместье, где меня обеспечили всем необходимым для жизни. У меня есть квартира — маленькая, но удобная, — добрые соседи и, главное, у меня есть возможность сосредоточиться на своей работе. Для писателя это важнее всего.
— Но как же язык? Вы не боитесь, что со временем ваш русский язык утратит свою естественность, потому что вы живете вне языковой среды?
— Немецкой языковой среды — да. Я вне ее, и поэтому мой скудный немецкий язык вряд ли станет лучше. А родной язык… Ну, тут даже и говорить нечего. Это внутри. Вы же не станете меня уверять, что у Бунина русский язык стал хуже оттого, что он столько лет жил во Франции?
Он увидел недоумение на лицах собравшихся и подумал, что, может быть, слишком высоко забрал, но мысль эта была так важна ему, что он принялся разъяснять ее:
— Язык старше и больше самого человека. Язык — это хранилище времени. Он охраняет мою жизнь. При чем здесь «среда»!
И покраснел, испугавшись, что его не поймут. Но Гофман легонько захлопал в ладоши, а вспышки фотоаппаратов участились.
— Над чем вы сейчас работаете, Юрий Николаевич? — спросила та самая девица, которая поправляла на нем галстук. — Вы пишете новый роман? О чем он?
— Романы обычно всегда об одном. О людях. О чем же еще? А если вы меня спросите, кто на этот раз мой герой, то я вам отвечу: герой мой — офицер СС Гартунг Бер.
На лицах появилось замешательство, и Владимиров опять испугался, что его не поймут правильно, и снова заговорил медленно и старательно, как будто он обращается к людям, которые плохо слышат и лучше всего понимают по губам:
— Я убежден, что искусство, настоящее искусство, обращается к частности человеческого существования. Оно сосредоточено на внимании к частному человеку. И это особенно важно именно для словесного искусства, то есть для литературы. — Он еще ярче покраснел и насупился, не желая отступать от своей темы, как полководец, бросивший солдат в атаку, понимает, что она может окончиться гибелью этих солдат и его самого, но не отступает от начатого. — Каждый из нас чувствует свою отдельность, что бы там ни говорили про социум и прочие глупости. Каждый по отдельности рождается и умирает, ест, пьет, зачинает детей. Хорошая литература должна говорить с человеком без посредников. В церкви есть служба — она для всех, но есть и еще более важное для отдельного человека: есть исповедь. Все эти повелители народов, глашатаи всеобщего блага, короче «делатели» — они на одной стороне, а литература, как и исповедь, — на другой. Глашатаи всеобщего блага оперируют «ноликами», а художник видит внутри этого «нолика» — отдельное лицо. Лицо человека. Пусть даже больное и скверное.
Гофман опять захлопал в ладоши, и Владимиров, чувствуя, что Гофман хочет помочь ему, сердито посмотрел в его сторону.
— Вот мы собрались здесь и будем сейчас все вместе есть, пить и даже, как я слышал, плясать будем. Хотя я не по этой части. А потом каждый из нас — и каждый в свой срок — уйдет из этой жизни, точно так, как каждый из нас сегодня уйдет из этой комнаты. Я надеюсь, что задача моя состоит в том, чтобы прожить сколько мне суждено моим собственным, а никаким не общественным образом. Ведь как Баратынский сказал? «Лица необщим выраженьем». Вот так. Это верно. Я ищу «необщее» выражение в героях. Поэтому у меня нет запретов на выбор.
— Хотели бы вы вернуться в Россию?
— Не знаю. Ей-богу, не знаю. Кроме того, что у меня здесь ничего нет — ни жилья, ни денег, — я не люблю возвращаться к прошлому. Я боюсь, что в таком возвращении всегда есть какой-то пафос. Вот как Солженицын, к примеру. А пафоса я не принимаю ни в каком виде…
Он хотел еще объяснить, что именно он вкладывает в слово «пафос», как вдруг увидел, что она вошла в зал и наголо обритый телохранитель рассматривает содержимое ее сумочки. Она была в черном платье, довольно свободном и даже слегка похожем на тот самый серый сарафан, светлые волосы ее были собраны в тяжелый узел на затылке, а на ногах были очень красивые сандалии с жемчужинками и какими-то синими блестящими камнями. Взгляд его не просто охватил ее всю — от высокого открытого лба с темными бровями до этих никогда прежде не виданных им сандалий, — взгляд словно втянул ее внутрь его существа с таким наслаждением самоотдачи, с каким только пьют из ручья жарким днем.
Лицо его вспыхнуло радостью. Владимиров потерял нить разговора, забыл, что хотел доказать, и вдруг улыбнулся дрожащей улыбкой.
Пресс-конференция закончилась, официанты, легкие и ловкие в своих движениях, как танцоры из ансамбля Красной Армии, лавируя с подносами, начали обносить гостей напитками и бутербродами с красной и черной икрой, белой и красной рыбой, потом какими-то крошечными, разукрашенными зеленью паштетами, потом еще чем-то с маслинкою сверху, и гости, округлив глаза от этой невиданной щедрости, роскоши, налегли на угощение, заулыбались, задвигались, принялись чокаться… Он оглянулся на Гофмана, который ответил ему своим сильным и твердым взглядом. У Владимирова, не выпившего ни рюмки, так сильно и блаженно закружилась голова, и так захотелось смеяться от радости, что он засмеялся, стянув с себя галстук.
Ну, хватит мне мучиться с этой удавкой, я их отродясь не носил…
Она пробиралась к нему через плотно сгрудившихся гостей, и ее полные ненакрашенные губы были раскрыты в улыбке, приветливой, властной, спокойной — такой, что он весь задохнулся. Она подошла, и он обнял ее, как обнимал многих из подходивших к нему, но запах ее лица, ее этих светлых волос (наверное, запах какой-то Шанели, а может быть, Гуччи там или Версаче!) с такой силой ударил ему в мозг, что он не сразу разжал руки и простодушно уткнулся носом в ее полуоткрытое ухо, вдохнув глубоко-глубоко.
— Спасибо за то, что пришли.
— А как не прийти? — она удивилась. — Меня же позвали. Желаю удачи вам, Юрь Николаич, успехов здесь с вашими книжками…
Он что-то пробормотал, не слыша себя и всем своим горящим, счастливым лицом говоря ей, что жизнь его — только она, а вовсе не книжки здесь и не успехи.
В соседнем огромном зале были накрыты столы, гости уже потянулись туда, и там уже громко захлопали пробки, а к Владимирову начали снова подходить, снова приставлять змеиные головки микрофонов к его рту, задавать вопросы.
— Вы счастливы в жизни? — спросил его журналист, лицо которого было таким бледным и отечным, что Владимиров решил про себя, что он тяжело болен.
— Мне трудно ответить. Не жалуюсь, в общем.
Он не смел сказать ту правду, которая сейчас переполняла его: да, счастлив.
— Вы не из тех, которые жалуются, — заметил журналист. — Но я вот смотрю на вас, Юрий Николаевич, и вы мне кажетесь счастливым человеком. Сюда ведь многие эмигранты сейчас наведываются теперь, когда ворота открыли. Госпожа Винявская часто приезжает, и Баранович, и Устинов, Михаил Валерьянович, и Шевчук, — так они все брюзжат, все с кем-то счеты сводят, только что не убивают друг дружку, а вы вот другой…
— Но жизнь-то не кончилась, — усмехнулся Владимиров. — Посмотрим еще, поглядим.
Эх, как погуляли в тот вечер! Сколько было выпито, сколько съедено, сколько песен пропели! Владимиров попросил сначала «Катюшу», потом «Подмосковные вечера», и спели ему эти старые песни два парня и крупная розовощекая девушка, а потом они покинули эстраду, уселись за столик и начали есть, но целый оркестр пришел им на смену и долго играл, и стучал, и дудел, и пары кружились, и пары скакали, а в воздухе пахло шампанским и пудрой. Маленький актер, знаменитый, со сморщенными глазами и обезьяньим лицом, недавно узнавший, что жить ему осталось не больше четырех месяцев, но не поверившей этому, потому что ни один человек не верит в собственную смерть и не знает, что это такое, обнял Владимирова, причем его круглый затылок прижался к ключице Владимирова, и сказал, что возвращение такого писателя обратно в русскую литературу подобно тому, как вернулся в объятья своей Пенелопы герой Одиссей.
Объятий действительно было с избытком.
Владимиров почти не пил, потому что самым ужасным было бы опьянеть в ее присутствии, но и без водки чувствовал себя так, как будто сейчас оторвется от пола и станет летать над людьми и столами. Виновница его сумасшествия сидела рядом с Гофманом, положив ногу на ногу, так что эти ее, с драгоценными жемчугами, сандалии были на виду у всего зала, посматривала на него золотистыми от ярких огней глазами, и он с ужасом и восторгом представлял себе ее всю под черным раскинутым платьем, ее наготу белоснежную, груди, живот и колени, и чувствовал запах духов ее, нежных, пьянящих и острых. Под утро, уставшие, ели пирожные, пили чаи: зеленые, черные, кофе со сливками. И фрукты давали: клубнику, бананы и твердые киви, немножко с кислинкой. А водки, вина, коньяка было столько, что бритые телохранители Гофмана смотрели с тоской и вздыхали всей грудью. Однако работой своей дорожили и с места не сдвинулись.

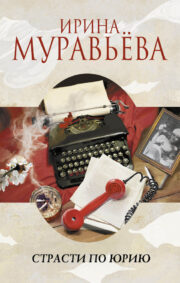
"Страсти по Юрию" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страсти по Юрию". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страсти по Юрию" друзьям в соцсетях.