Остался один Гартунг Бер. Зачем он ему? Ведь сказано в Библии: «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся, многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот, нет его, ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир».
Он был «нечестивцем», его Гартунг Бер. И он расширялся, он укоренялся, он не отпускал. За Гартунгом не было — мира. И все же его нужно было понять. Поскольку не с Гартунга ведь началось. «Волчат» заловили туда, внутрь зла, и там, внутри зла, их и бросили сразу.
«Гартунг вернулся в школу, зная, что Бога, которому он молился весь истекший год, прося Его как можно скорее соединить их с Машей, нет и никогда не было. Теперь, засыпая, он рисовал себе картины жуткой мести всему на земле, как делал тогда, когда мама собралась замуж и сняла со стен все отцовские фотографии. Кроме отвращения к Богу, которого не было, в нем наступило отвращение к девушкам и молодым женщинам. Как только он думал о Маше, ее тело, позолоченное светом пробившегося сквозь деревья солнца, ее ярко-красные, вспухшие от его поцелуев губы, ее молодые и круглые локти терзали таким наважденьем любви, что он старался как можно скорее отвлечься на что-нибудь, лишь бы не застонать и не разрыдаться, но как только он представлял себе обнаженной какую-то другую девушку — хотя бы миловидную сестру своего приятеля Освальда, — в нем вмиг поднималась такая гадливость, как будто бы он раздавил червяка».
Варвара еще спала, — он помнил, что в это утро она долго спала, — когда он спустился к почтовому ящику за забытой вчера почтой. В открытую дверь подъезда вошел тот самый толстяк с букетом, которого Владимиров уже заметил однажды, несколько недель назад, когда он курил на балконе. Сейчас, встретившись глазами с Владимировым, толстяк вдруг смутился и сразу шмыгнул прямо в лифт.
Владимиров вынул из ящика кучу макулатуры, внутри которой оказалось Катино письмо.
«Мама умерла неожиданно, утром во вторник. Вскрытие показало внезапную остановку сердца, следствие обширного инфаркта. Она никогда не жаловалась на сердце, хотя я уже давно замечала, что по утрам она бывала слишком бледной. Папа, я знаю, что, несмотря на то что вы с мамой расстались, ты любил ее, и она тебя тоже любила. Я всегда чувствовала это. Тебе сейчас больно, я знаю. А мне — так, что я даже не буду писать тебе об этом. Совсем не могу быть дома одна, все время чувствую маму, а иногда чувствую, что и ты где-то рядом. Как будто вы оба по-прежнему вместе. Я не знаю, когда ты получишь это письмо, да и получишь ли, но звонить не хочу. Нет, лучше письмо.
Мне удалось договориться на кладбище и похоронить маму рядом с дедушкой и бабушкой. Сначала на меня орали, что там нету места, могилы осели и что-то еще, но за деньги можно добиться всего, и я получила разрешение. У нас выпал снег, а в пятницу, когда были похороны, ночью вдруг сильно подморозило. А только конец сентября. Отпевание было в ваганьковской церкви, в которую мама всегда заходила и ставила свечки дедушке и бабушке. В церковь пришли все мамины друзья, все, с кем она работала в больнице, много было моих подруг. Меня удивило, что добрались даже Ника с Тамарочкой. Им ведь далеко, да и Ника себя очень плохо чувствует. Мама лежала совсем молодой, казалась просто девочкой. Я ее сначала даже не узнала. Потом узнала, конечно. Я так долго, не отрываясь, смотрела на нее, что мне вдруг показалось, как будто у нее слегка шевельнулись ресницы. Знаешь, папа? Я ничего не понимаю про смерть. Считается, что, раз я врач, я должна понимать все или почти все. Иногда мне кажется, что я просто схожу с ума, до того мне нужны вы оба: мама и ты».
Дочитав письмо, Владимиров аккуратно сложил его пополам и сунул в карман пижамы. Потом он вызвал лифт, хотя возвращаться домой не собирался. Лифт, однако, приехал и раскрыл свои дверцы. Владимиров постоял, дождался, пока лифт снова уплывет наверх, и вышел на улицу. На улице было тепло, но шел листопад полным ходом, и мертвые эти прекрасные листья летели порывисто, словно хотели, чтоб люди смотрели на них, как на птиц.
Он попытался представить себе все, о чем написала Катя. Арина была похожа на девочку, когда ее отпевали в церкви. А когда он первый раз увидел ее, она и была девочкой. В ноздри ему ударил снежный запах зимы, запах свежего льда, и тут же из темноты вылепилась девочка в синей безрукавке, которая никак не могла затянуть шнурки на ботинках, сидя на корточках возле самого фонаря. Вспоминать об этом было не так больно, как представлять себе Арину в гробу, и казалось, что Владимиров вспоминает не себя и не ее, а каких-то почти незнакомых людей, которые так и остались на льду. Пришли на каток и живут там под музыку. Он даже мысленно дотронулся ладонью до запорошенного снегом ботинка этой девочки и тут же почувствовал холод конька, тепло ее тонкой ноги и этот совсем удивительный запах: ее больших, мокрых, распаренных варежек.
Но тут вдруг ударила боль такой силы, что он, замерев посреди тротуара, схватился за сердце. Болело не сердце, а где-то внутри, совсем глубоко в животе, и тошнило так сильно, что он начал шарить глазами вокруг, не зная, куда бы пристроиться так, чтоб люди не видели, как его вырвет. Она умерла. Вот и все. Дойдя до конца Винерштрассе, он повернул обратно и через пятнадцать минут вновь оказался у подъезда своего дома. Варвара с расширенными страхом глазами открыла ему дверь.
— Письмо вот от Кати, — сказал Владимиров, нажимая рукою на письмо в кармане. — Арина скончалась.
Варвара отступила на шаг и молча пропустила его в комнату. Владимиров прошел мимо, ссутулившись, сел за стол. Она продолжала стоять в коридоре. Эта женщина, его жена, которая прежде причиняла ей столько мук и унижений, ушла вдруг внезапно и так далеко, что чувства, и мысли, и страсти Варвары отныне ее не касались.
Юрочка сидел, положив руки на скатерть, и смотрел в одну точку. Варвара осторожно опустилась на краешек стула рядом с ним.
— Юрочка, — сказала Варвара, борясь с охватившей ее пустотой. — Ты выпил бы кофе… Не хочешь?
Владимиров бегло взглянул на нее и тут же отвел глаза. Она хотела было погладить его по голове и даже немного сочувственно сморщилась, но он отклонился вдруг резко и весь покраснел, словно сделал бестактность.
Зима прошла тихо. Владимиров много работал, Варвара томилась, звонила Мишане, который любил с ней посплетничать, но часто бывал слишком пьян, язык у него заплетался. Винявский болел, Марь Степанна притихла, лечила его колдовством. Все часто куда-то надолго летали, а многие ездили поездом. То Вена — Москва, то Москва — Петербург, то снова Москва, то зачем-то Рейкьявик. Везде были встречи, столы и беседы.
Случались скандалы, пока без дуэлей, и кроме того, чтоб толкнуть сильно в грудь, ничем роковым никогда не кончалось. К тому же и возраст давал себя знать: толкнешь подлеца, а наутро — давление. Один замечательно умный филолог сорвался однажды всерьез и прямо на сцене ударил врага. Ударил неловко и даже не сильно, но враг побелел, отступил, а наутро его унесли на носилках в больницу. Вернулся под вечер, но был так напуган, что месяц людей обходил стороной. Боялся опять схлопотать по щеке, хотя был когда-то любимцем Ахматовой.
Юрочка стал несколько скрытен, но то, что любовь его не угасала, а стала еще даже более острой, Варвара теперь ощущала все время. Она не связывала это со смертью Арины и очень бы рассердилась на того человека, который посмел ей об этом сказать. Но именно это и было причиной наставших сейчас перемен. Владимиров начал тревожиться, когда легкомысленная Варвара Сергевна задерживалась в магазине, простужалась, кашляла, а по ночам, когда она уже спала, он вдруг подходил к ней, наклонялся, как мать наклоняется к только что родившемуся у нее ребеночку, и слушал, как Варенька дышит. Бывало, она что-то начинала доказывать ему, сетовать на его инерцию, на то, что он так кропотливо работает, а он смотрел на нее отсутствующими глазами и думал о чем-то другом, но стоило Варваре загадочно сообщить, что у нее кружится голова или стреляет под лопаткой, он вдруг начинал волноваться так сильно, как будто она — не дай Бог — умирает. Садился в ногах и сидел, как собака.
— Завишу я, Варя, — сказал он однажды. — Смотри не помри до меня, я не вынесу.
И физическая любовь его к ней изменилась. Куда-то исчезло веселое счастье. Теперь каждая телесная близость их несла в себе словно бы страх расставанья, и если бы Варвара не знала своего мужа так, как она его знала, и не любила каждый волос на его голове, и запах его пота, и звук его кашля сквозь утренний сон, она бы могла испугаться той силы и, главное, той нескрываемой боли, какая была на лице его в эти, не частые, впрочем, минуты любви.
Начало марта было таким теплым, что можно было гулять и сидеть на балконе без пальто. А в апреле случилось событие. Собственно, событием это даже и нельзя было назвать, но в той однообразной жизни, которая досталась Варваре Сергеевне на чужбине, любое ее отклоненье от нормы могло считаться событием. Во Франкфурт по делам устройства очередной конференции приехали Ваня Вернен с коллегой и другом Петюней Волконским. Остановились в очень хорошей гостинице и наутро, румяные, бодрые, полные сил, подкатили на добротной, хотя и не новой машине к подъезду Владимирова. Гаянэ с корзиной баранины, только что купленной, как раз возвращалась домой и, увидев двоих незнакомцев, которые говорили по-русски и по бумажке проверяли адрес, сурово спросила, кого они ищут.
— Писателя из Москвы, Юрия Николаевича с супругой, знаете? — несколько насмешливо спросил ее Ваня Вернен.
— Друзья маи близкие, — сдержанно ответила Гаянэ. — А вы па какому вапросу?
— А мы их сейчас повезем в Баден-Баден, — сверкая зубами, ответил Вернен. — Бывали небось в Баден-Бадене?
Гаянэ в страхе всплеснула руками.

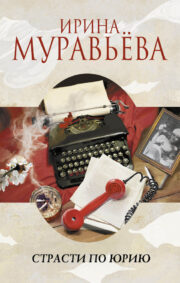
"Страсти по Юрию" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страсти по Юрию". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страсти по Юрию" друзьям в соцсетях.