Девочка смотрела на него по-деревенски застенчиво, но пару раз за время рассказа взгляд ее ускользал в сторону, и Гартунг догадался, что она знает такие вещи, о которых он даже не слышал. Она рассказала ему, как Маша стояла у плиты, потом вдруг легла прямо на пол и „тут родила“, а ему казалось, что и о Маше она говорит как о какой-нибудь деревенской козе или корове, которые, наверное, не раз рожали на ее глазах.
„И Маша, — сказала ему эта девочка, — была вся в крови, и даже ботинки ее стали красными“.
Гартунг не понимал, почему она рассказывает о сестре с такой безжалостной добросовестностью, и ему вдруг захотелось ударить ее за это, но он стоял и слушал, а потом, когда она предложила навестить Машину могилку, поплелся за ней на кладбище — тихое сельское кладбище с обветшалой часовенкой, фарфоровыми венками и множеством ангелочков с почерневшими от времени и отколовшимися кудряшками.
Рыжеволосая девочка сказала ему: „Ici, il est“.[3]
Гартунг увидел холмик с деревянным православным крестом и несколько розочек, небрежно воткнутых в этот холмик, уже облетевших, сухих и невзрачных…»
Владимиров настежь раскрыл окно, прислушиваясь к шуму густых деревьев внизу. Он увидел, как к дому подъехала машина, вышел толстячок с букетом и заторопился так, как будто вся его судьба зависела от того, насколько быстро он преодолеет расстояние до подъезда. И опять то же самое чувство, которое Владимиров первый раз испытал много лет назад, когда он только начинал писать и все, что он писал, вызывало в нем раздражение и тревогу своею неточностью и приблизительностью, — то же самое чувство, что он никогда не сумеет передать главного, охватило его. По опыту он знал, что бесполезно бороться с этим чувством, потому что оно справедливо, и только те люди, которые пишут для денег, или те, которые ни разу не задохнулись от страха перед своею беспомощностью, не знают этого состояния и не понимают его.
Он снова вспомнил покойного Оганеса, который жил в пригороде Еревана и изредка сочинял веселую и вкусную прозу. Вспомнил, как все удивлялись, почему он пишет так мало, не лезет наверх, не обивает московские пороги, а все сидит в своем увитом виноградом доме, читает какие-то странные книги, потягивает коньяк вместе с тихим лупоглазым человеком, бывшим своим одноклассником…
— Я тебе абъясню, Юра-джан, — говорил ему Оганес, выговаривая слова точно так же, как их выговаривали новые соседки Владимирова, — знаешь, пачему я спакойный челавек? Патаму что я не сужу никого, и мне харашо. Начнешь асуждать, сам сразу в лавушке акажешься. А я на свабоде, и мне харашо…
И умер так просто, легко и спокойно. Лег вечером спать и уже не проснулся.
Если бы не Варварины настроения, нынешнее существование их было бы вполне сносным и годилось для работы. Пособия хватало на все необходимое, городок, в котором они поселились, был мирным, спокойным, не нужно было бежать в проклятую редакцию, разбираться в дрязгах, копаться в чужих глупых текстах. Его, слава Богу, забыли, простили: и эти, и те. Политика чавкала ртом и скрипела зубами вдали от него, и высокие сосны беззвучно стояли на страже покоя. Но Варя, жена! Она не могла примириться с тем, что «не считаются с Юрочкой». Устинов вон съездил в Москву, и «к нему там прислушались». А этот, который в Америке, почти что слепой, тыщу лет в эмиграции, он тоже поехал в Москву, выступал, народ к нему прямо ломился, и женщина с третьего ряда спросила: «Абрам Моисеич, когда конец света?» И он ей ответил и дату назвал. А Зус Олешевский повез туда рукопись. С его, Зусьей, лексикой: ненормативной. И ведь напечатали, и сам Рокотич беседовал с Зусом в течение суток. Проклятая Марья Степанна взяла у себя интервью, суетилась, дошла до ведущих газет и журналов и вместе с партнером своим долговязым на этой метле своей, ведьма очкастая, летает у всех на виду, не стесняется…
Потихоньку от Юрочки неугомонная Варвара однажды поехала в Прагу. Огромная радиостанция, расположенная в центре города на Виноградской улице, раскрыла объятья жене знаменитости. Варвара и носа не успела припудрить: ее словно ветром внесло прямо в пламя. На седьмом этаже в кабинете с большим окном, уставленном домашними цветами в горшках, сидел князь в шестом поколении Петя Волконский, который так долго жал руку Варваре, что стала немного чесаться ладонь. Потом, отирая лоб носовым платком с вышитым на краешке фамильным вензелем, Петя начал расспрашивать о здоровье Юрия Николаевича и очень просил его дать интервью, но только «по-честному». Варвара вспыхнула, сказала, что муж никаких других, нечестных, интервью никогда не давал и не будет давать, но занят безумно, он пишет роман. Князь Петя вздохнул и заметил, что если бы сам Александр Исаич вступился, то не было бы увольненья с работы. Варвара опять вспыхнула, зная, что муж ее, Юрочка, лучший писатель, чем мрачный отшельник, засевший в Вермонте.
А дальше случилась история, попортившая Варваре много крови и, главное, — совершенно неожиданная и незаслуженная история. Началось с того, что в Петин кабинет развязно ворвался средних лет невысокий мужчина с порочным и нервным лицом. Поскольку он был с бородой, то порочность была осмотрительно спрятана в бороду.
— Варенька! — воскликнул развязный мужчина и влажной от пота своей бородою уткнулся в смущенную руку Варвары. — Да сколько же мы не видались-то, Бог мой!
Варвара не сразу вспомнила пропотевшего, которого много лет назад встречала изредка в ресторане ЦДЛ, куда ее с двумя университетскими подружками, совсем молоденькую, пропускали по блату. Он, кажется, был литератором. Прозу писал. А звали его?
— Ваня! Ваня Вернен! — закричал бородатый. — Уж вижу: забыла! А я не забыл! Смотрел на тебя тогда, думал: «Ах, Маша! Ну, как хороша, а не наша!»
Искренние глаза Вернена сияли такой доброжелательностью, что Варвара, знающая, что все на свете литераторы люто завидуют Юрочке, почти успокоилась. Радостный Вернен тут же предложил записать на пленку интервью с супругой Владимирова. Немедленно, сразу в эфир. Тут Варвара замешкалась. Юрочка мог и не одобрить ее самостоятельности.
— Сначала мы отрепетируем, Варя! — не давая ей опомниться, продолжал Вернен. — На сколько вы к нам?
— Я сегодня уеду.
— А мы не отпустим! Ведь правда, Петюня? Засели там, в этом своем Нюренберге!
— Мы с Юрой во Франкфурте, не в Нюрнберге, — сказала Варвара.
— А мне — один хрен! Я вашу Германию так называю! А что, я не прав? Ведь фашист на фашисте! А здесь вы где, Варенька? Кто у вас в Праге?
— Так я же сказала: нигде! Я на поезд…
— Какой еще поезд? Ведь правда, Петюня? Жены моей нет, — тут Ваня Вернен спохватился. — Вернется жена моя вечером. Милости просим!
Варвара Сергевна попросила разрешения позвонить Юрочке и спросить, как он отнесется к тому, что она задержится в Праге на целый день. Владимиров звучал глуховато и напряженно, к телефону подошел не сразу: опять, значит, изнемогает в работе. Положив трубку, Варвара почувствовала вдруг такую тоску по этому тихому обожаемому человеку и такое неистовое желание показать всему миру, кто такой Юрий Владимиров, что согласилась и на утомительные разговоры Вернена, и на ночевку в чужом доме, и на завтрашнее интервью. В ожидании вечера успела, кстати, еще пройтись по магазинам, где, разные вещи примерив, со вздохом купила в конце концов только носочки. В пять часов пополудни, как договаривались, Варвара вошла в массивный и прохладный подъезд старого пражского дома, живо напомнившего ей арбатские старые дома, поднялась на четвертый этаж по каменной, со стертыми ступенями, широкой лестнице и позвонила в высокую и добротную дверь.
Ваня Вернен в цветастой гавайской рубашке, подчеркивающей простодушие его улыбки, — весь в розовых птицах и синих лианах, в широких, почти до колен, красных шортах, с сигарой во рту, как родственник, стиснул Варвару в объятьях.
— Ну, слава те, Господи! Свиделись! Варька! Ведь как расцвела! Была-то как палка: худющая, бледная! А вышла — царица!
Варвара Сергевна немного смутилась.
— Давай раздевайся! Умойся! Расслабься! — грохотал Ваня Вернен, растроганно рассматривая Варвару. — Я там полотенце тебе приготовил, халатик свежайший, помойся, попарься! Сейчас тебя буду кормить! Сам готовлю! Продукты здесь, Варенька, лучше парижских!
Квартира оказалась большой, четырехкомнатной. Окон было много, свет лился нещадно. Растерявшаяся Варвара Сергевна пошла в ванную, тоже очень напомнившую ей старинные арбатские ванные, приняла душ, надела предложенный Ваней халатик — действительно чистый и очень уютный — и, довольная, что так замечательно устроилась на ночевку в чужом городе, вернулась в столовую. Ваня Вернен в просторном белом фартуке поверх своих птиц и лиан ярко-синих вовсю хлопотал у стола.
— А здесь мужики у нас стряпают, во как! — сияя, сказал он Варваре. — Не веришь? У вас там, в Германии, жрать-то ведь нечего! Сосиски одни да гнилая капуста! Что? Скажешь, не так? Ну, в Америке — Зус. Я с этим не спорю. Писатель он средний, а вот поросенка зажарит — что надо! Подаст как живого. Да, Зус — это сила! А булки какие печет! Колбаску сам делает, яблочки мочит! Жена его, Кирка, работает, дом весь на нем. Но Зус-то где, Варя? Ведь он под Нью-Йорком! Поди доберись! Но я теперь Зуса нисколько не хуже! Вот только что хлеб не пеку, врать не буду! Вы кушайте, Варенька, вы угощайтесь!
Вернен, судя по всему, очень старался угодить супруге прославленного Юрия Владимирова и рвался во всем быть полезным. Варвара Сергеевна порозовела от удовольствия. Угощение было очень вкусным, а баранью ногу Иван зажарил так, что Зус Олешевский бы лопнул от зависти. Коньяк тоже пился легко и приятно. Вернен подливал, и Варвара хмелела.
— А где же жена ваша, Ваня? Жена где? — вдруг, вся встрепенувшись, спросила Варвара. — Ведь вы ее вечером ждете сегодня?
— Жена-то? Аглая? — спросил пьяный Ваня. — Жена там, в Мадриде, у дочки, похоже. А может, у сына. Она ведь гречанка. Взяла моду ездить! Нет, мне бы такую жену, как у Юрки! Чтоб дома сидела да книжки писала!

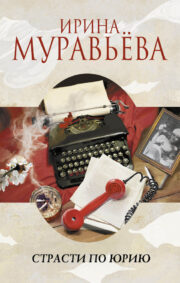
"Страсти по Юрию" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страсти по Юрию". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страсти по Юрию" друзьям в соцсетях.