Через неделю после бурной встречи Варвары Сергевны с бывшим казаком и белогвардейцем Руслановым, справедливо заметившим, что мужу Варвары Сергевны гораздо приличней заниматься своим прямым делом, то есть сочинять книжки, а вовсе не рваться в большую политику, видавшая виды машина остановилась у подъезда многоэтажного кирпичного дома в одном из предместий нарядного Франкфурта. Из машины вылез седой, несколько сутулый, с очень приятным лицом человек, а за ним с капризной медлительностью, словно она только что станцевала умирающего лебедя, появилась красивая дама с кукольно накрашенными ресницами, одетая очень старательно. Первым делом она вскинула свои ресницы и несколько презрительным, но все же взволнованным взглядом обежала — насколько смогла — целый дом. На лице у нарядной красавицы мелькала суетная озабоченность тем, кто смотрит на них из окон и кто что о них сейчас думает. Но вряд ли о них кто-то думал. Земля пахла клевером, был жаркий полдень. На небе сияло спокойное солнце, а птицы как будто погасли в лесу: наверное, горла у них пересохли. К огорчению Варвары Сергевны, было похоже, что ни одно на свете существо не интересовалось тем, что происходит со знаменитым русским писателем Юрием Владимировым и его столь нарядной женою.
Нагруженные вещами, они зашли в подъезд, вызвали лифт, тесный, несколько обшарпанный, поднялись на одиннадцатый этаж, и Владимиров, достав из кармана новенький ключ, открыл дверь одной из четырех квартир, находившихся на лестничной площадке высокого чужого этажа. Квартира была совершенно пуста, чисто вымыта, и это отсутствие даже окурка, какой-нибудь даже несчастной газеты, в которой всегда люди врут друг про друга, произвело на вошедших грустное впечатление.
— Какое все мертвое, Господи, Юрочка! — сказала Варвара, и черные глаза ее налились слезами.
Владимиров тихо вздохнул. Варвара опомнилась.
— Мне очень здесь нравится! — с вызовом произнесла она. — Здесь просто прекрасно! Мы в центре Европы, у нас есть прожиточный минимум, ты скоро закончишь роман, свою книгу, и нас не оставят друзья! А книга твоя принесет много денег!
Голос у нее, однако, задрожал, и, чтобы скрыть от мужа свое огорчение, Варвара Сергеевна, быстро повернувшись на красных лакированных каблучках, убежала в ванную. Там она открыла кран, чтобы Владимиров не услышал ее рыданий, и долго, мучительно, страстно рыдала, зажав рот ладонями, смазав помаду.
Вечером они сидели на чемоданах и ужинали. На первое была пицца, которую Владимиров купил на соседней бензоколонке, на второе тоже была пицца, а из напитков большим успехом пользовалась водка, стоящая рядом на полу. Водку они привезли с собою из Франкфурта.
— Ну что, моя радость? — повеселев, сказал Владимиров. — Давай запечатлею безешку в сахарные уста твои и — на боковую! А завтра поедем и купим кровать, два стула и стол. И начнем новую жизнь.
Варвара прилегла на его колени, закинула руки за голову.
— А кроме безешки?
— Ты мне честно скажи, — перебил ее Владимиров, налил треть стакана и выпил, зажмурившись. — Сломал тебе жизнь? Только честно скажи.
— Ну, так уж сломал! — усмехнулась Варвара и томно взглянула на пьяного мужа. — Да я за тебя…
Она не успела договорить, как в дверь позвонили.
— Кого черт несет! — Владимиров встал и пошел открывать.
За дверью стояли три пожилые женщины, похожие друг на друга. Одна была очень маленького роста и казалась намного старше сестер. Волосы ее были совсем белыми, но еще сильными, густыми и мелкими кудряшками выбивались на лоб из-под простого железного обруча. На всех были темные платья и бусы.
— Мы ваши саседи, — с сильным армянским акцентом сказала старшая. — Пришли пазнакомиться. Мы сестры. Вот эта — Джульетта, а эта — Афелиа. Я — Гаянэ.
Сестры были смуглыми, с блестящими маслиновыми глазами, большими носами, немного усатые. Когда они через плечо растерявшегося Владимирова увидели стоящую на полу бутылку и остатки пиццы, глаза у сестер округлились.
— Зачем вы так кушали? — убито спросила Офелия. — Так только сабаки на улице кушают, а люди сидят за столом, чтобы кушать как люди!
Они затрясли головами, и бусы на старых их шеях слегка зазвенели.
— Пайдем к нам пакушаем. Есть что пакушать. Гарячее, свежее, только из печки.
Варвара вскочила с готовностью.
— Красивая женщина, — одобрительно заметила Офелия, как будто Варвара была глухой и не слышала ее. — Очень красивая. На наших армянок похожа.
В соседней квартире был накрыт стол. Над ним стоял запах. И он был таким, что дрогнуло сердце Владимирова. На секунду ему показалось, что нет никакой Германии и Франкфурта нет, а есть Ереван, где гуляют писатели. И он, молодой, в рубашке с закатанными рукавами, сидит за столом на террасе в доме покойного Оганеса, такую писавшего прозу, что завидно было, и жена хозяина полными молочно-белыми руками разрывает над белой скатертью горячий и свежий лаваш…
— Сначала путук будем кушать, — строго сказала усатая Гаянэ и сняла крышку с глиняного горшка. — Патом мы сунки будем кушать. Желудку палезно.
Покорно смеясь, они сели за стол. Офелия разлила суп по глубоким белым тарелкам.
— Да мы ведь поели… — смущенно сказала Варвара.
— Ай! Што вы паели! — с ужасом воскликнули сестры. — Какую вы гадкую пищу паели! Сабаки такую не кушают! Путук нада кушать! Пажалуйста, кушайте!
Шесть одинаковых встревоженных глаз смотрели на то, как Владимиров и его захмелевшая жена с жадностью едят путук.
— Я в жизни такого не ела, — вздохнула Варвара. — Я даже и слова такого не знала: путук.
— Как можна не знать? — И вся Гаянэ закачалась, как куст. — Теперь будешь знать и сама пригатовишь. Пайдем завтра купим баранью грудинку. Такой магазин есть хароший, в падвале, баранина свежая, зелени многа. Патом я тебя научу. Путук тебе дам. Как не знаешь путук? Гаршок этат глиняный так называется. В кастрюле нельзя суп варить, суп пагибнет. Грудинку нарежешь и варишь с гарохом.
— Аесор инч ор э? — со страхом спросила Офелия.
— Ана гаварит: «какой день?», — перевела Гаянэ. — У них в магазине баранина лучше всего в панедельник. Вчера панедельник был, завтра среда. Индз ми хангари![2] Всегда мне мешает! Начну гаварить, а ана мне мешает! Баранину режешь кусочками. — И вновь устремила свой взгляд на Варвару. — Нарежешь кусочками, станешь варить. Вада испаряется, так? Падливаешь бульон. А мясо самой нада пробавать. Паваришь, паваришь, дастанешь кусочек, атрежешь нажом и немнога пакушаешь. Кагда станет мягким, дабавишь гароха. Апять варишь, варишь и пробуешь. На ложку берешь и немнога пакушаешь…
Варвара слушала ее так, как дети, засыпая, слушают сказку. Во сне ей казалось, что завтра она, проснувшись ни свет ни заря, купит белый «гарох», потом будет резать душистую зелень, потом будут с Юрочкой кушать путук… На следующий день тоже будет варить, потом будут кушать и снова варить…
— …А брат гаварит: «Я вас всех заберу». А мы гаварим: «Как ты нас заберешь? Артур, дарагой, как ты нас заберешь?» А он гаварит: «Там нельзя больше жить. Апять везде кровь палилась. Теперь Карабах будут долго делить». Что делить Карабах? Живем и живем. Что делить этот суп? Пакушаешь суп, нада новый варить. Знаешь хаш? Тоже суп. Армяне всегда гаварят: «хаш — наш суп», а ани гаварят: «хаш — наш суп». Аткуда мы знаем, чей суп? Его в Азербайджане едят, его в Ереване едят. Зачем тагда кровь, гаварим?
— Где ваш брат? — спросил Владимиров, глядя на этих полных, с тревожно и удивленно блестящими глазами, мудрых старух. — Он что, здесь, в Германии?
— Артур ваевал, папал в плен, ранен был. Угнали в Германию. Тут и живет. Жена из Ливана. Харошая женщина. Они нас забрали. Вассаединили. Артур гаварит: «Я мамой паклялся, что всех заберу». Все дети приехали, внуки, все тут. Давно все работают. А мы уже старые, так? Пасобие дали, вот мы и живем. А как без пасобия жить? Мы сразу Артуру сказали: «Артур, дарагой, мы работать хатим. Как можно так жить?» А он гаварит: «Какая работа для вас? — гаварит. — Вы старые, без языка. Уехали с Родины, вам тяжело, душа будет очень балеть. Атдыхайте».
— Болела душа? — прошептала Варвара.
— А как не балеть? — удивились все трое. — Зачем человеку душа? Чтобы сильно балеть! Тебе хорошо, тебе есть что пакушать, а рядом живет человек — ему нечего кушать. Зачем человеку душа, если ей не балеть?
Ночью, когда, вдоволь наевшись супа, лаваша, мусахи с овощами и плова с гранатами, румяная Варвара заснула, завернувшись в брошенное на пол одеяло, и волосы, черные с синим отливом, напомнившим спину собаки, распластанной возле хозяина, легли с нею рядом, Владимиров вспомнил про Гартунга Бера.
«Через год он вернулся в эти края, ожидая, что сейчас вновь увидит ее. Поезд начал замедлять ход, приближаясь к маленькой станции, и Гартунг Бер едва удержался от того, чтобы не спрыгнуть на ходу. Ему хотелось расцеловать эту землю, и небо, которое отразилось в вагонном стекле, и чахлое дерево, обреченное на скорую гибель, поскольку шаровая молния еще в прошлом году ударила в него, и теперь это дерево медленно умирало на глазах проводников и пассажиров.
В закрытой военной школе, куда его отдал отчим, запрещалась переписка с посторонними лицами, но он так много думал о Маше и так рвался к ней, что воображение восполняло ему ее отсутствие. К тому же он был терпеливым и, отсчитывая месяцы, недели и дни до встречи, ни секунды не сомневался в том, что как только поезд остановится и он добежит до ее дома, где она встретит его, так все это сразу вернется: река, тишина, запах сонной травы и Машино теплое белое тело.
Поезд наконец остановился. Он вскинул на плечо рюкзак и побежал. Ему отворила рыжеволосая девочка, похожая на Машу большим круглым лбом и густыми бровями. Она сказала ему, что Маша умерла весной, потому что ждала ребенка, но роды наступили до срока, и она потеряла столько крови, что сразу умерла. И этот ребенок ее тоже умер.

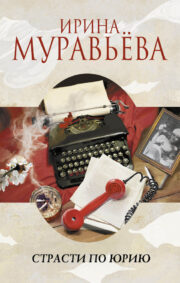
"Страсти по Юрию" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страсти по Юрию". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страсти по Юрию" друзьям в соцсетях.