Во-первых, она немедленно сочинила письмо врагу человечества Марье Степанне, которая сидела в самом сердце Франции и отливала из воска мерзких своих куколок, а после втыкала иголки им в спины. То, что у Варвары Сергевны после приезда из Брюсселя все время ныла поясница, могло быть прямым результатом заветных иголочек Марьи Степанны. Мишаня Устинов перед самым отъездом со злополучной своей конференции, мертвенно-бледный от выпитого коньяку, просил вспыльчивую красавицу Варвару Сергевну оставить в покое Ярилу, засевшую в тихом предместье Парижа, где в собственном доме проклятой Ярилы повсюду висели иконы. Не просто иконы, а чудо искусства. А как она вывезла эти иконы — о том, разумеется, сплетни ходили. Но русские любят посплетничать. Намажут батон сладким джемом и сразу: «Они же служили, они же с заданием!» Ну что ж, что служили? А вы не служили, так сядьте спокойно и ешьте свой бублик.
Как назло, до Варвары дошли слухи, что в частной какой-то беседе продавшая душу чертям Марь Степанна сказала про Юрочку так: «Да он через месяц завалит журнал. Какой он редактор? Как я балерина!»
Нельзя было больше терпеть. Решившись на то, чтобы утаить от Юрочки свой дерзкий поступок, Варвара Сергеевна, подобно Татьяне, при свете луны, по-немецки слащавой, взялась за письмо. Оно вышло едким, весьма остроумным, поскольку обыгран был пушкинский текст и смелый поступок Варвары Сергевны немедленно сделался литературой.
«Я вам пишу, — кривя губы от мстительной иронии, писала Варвара Сергеевна, — понимая, что вы, скорее всего, не только не ответите мне, но приложите все силы для того, чтобы облить меня и моего мужа еще большей грязью. Сначала я молчать хотела. Ведь всякая попытка усовестить вас и вашего партнера (ей очень понравилась мысль назвать Винявского не супругом, а с ядом и метко: „партнером“ Ярилы!), всякая попытка такого рода заранее обречена на провал. И пусть ничем мы не блестим, но мы не запятнали себя сотрудничеством с органами Государственной безопасности и не живем в доме, купленном на деньги этих органов. Мой муж — писатель, он не чета вашему раздутому журналисту-партнеру. А если ваша газетенка (Варвара Сергевна отлично знала, что Винявские начали издавать журнал, а не газету!) со многообещающим названием „Деепричастный оборот“ проживет хотя бы два месяца, я от души порадуюсь вашему успеху и трудолюбию. Кончаю. О чем говорить мне с такими людьми? На честь вашу я не надеюсь, но страха — увы вам! — нисколько не чувствую».
Дрожа от волненья, конвертик заклеила и утром послала по нужному адресу. Ответа, разумеется, не последовало, но удар такой силы, что даже и от Ярилы трудно было ожидать его, последовал тотчас же. Началось с того, что через неделю Варвару скрутил радикулит. Пила анальгин, куталась в шерстяной платок, натиралась змеиною мазью, боялась, что, видя такую калеку, и Юрочка к ней охладеет: мужчина. Но Юрочка ей сострадал. Сварил даже суп, но на этом и кончилось. Сидел и работал, не помня Варвары. Во сне часто плакал, зубами скрипел. Она, разумеется, все поняла: видать, опять куколку сделала ведьма. Из свежего воску от собственных пчелок.
В четверг утром Варвара Сергевна почувствовала себя лучше и доплелась до редакции, где обнаружила, что готовый, уже сверстанный номер журнала вернули из типографии, и высокое начальство, а точнее спонсоры, а еще точнее, те люди, которым принадлежал журнал и которые платили зарплату главному редактору Юрию Владимирову, были недовольны «беспринципным и произвольным подбором материала».
За столом отсутствующего редактора сидел очень старый, судя по его морщинистым, в черных пятнах, рукам, человек, одетый добротно и выбритый гладко, однако с усами, сквозящими, словно он был давно мертв. Читал, кисло морщась, зарубленный номер.
— А это зачем? А стишки здесь зачем? А где публицистика? Где информация?
В глазах у Варвары Сергеевны потемнело.
— Материалы, — громко ответила она, — были отобраны главным редактором…
Тут грузный старик приподнялся со стула:
— А вы здесь при чем, а, голубушка?
— Что значит при чем? — задохнулась она.
— Ну, ладно, — сказал он почти дружелюбно. — Мы номер задержим, и новый редактор исправит ошибочки вашего мужа.
Он, стало быть, знал, кто она! Он, стало быть, и оказался Руслановым, которого ждали со страхом из Бонна! Мишаня ведь предупреждал! Ведь он говорил, что «заглавная ведьма», конечно же, Марья, но Марья слабей, чем Кащей, у которого деньги. А деньги откуда? Про это Мишаня молчал.
— Красивенькая, — со стариковской жалостью заметил Кащей. — Что глазки, что лапки… Эх, скинуть бы годиков сорок, совсем бы другой разговор! У нас, казаков, ведь какие повадки? Раз по сердцу девка, хватай — и в седло! А там уж ты с ней разбирайся как хочешь: понравишься — значит, по-твоему будет, а нет — не пеняй! Эх, скинуть бы годиков сорок да в стремя!
Варвара Сергевна чуть было не набросилась на него с кулаками, чуть было не растерзала проклятого сластолюбца с его этим пальцем черней чернозема! С его этим перстнем на скрюченном пальце! На Юрочкином, на редакторском кресле, его растерзала бы до основанья!
Однако Кащей вдруг нахмурился: вспомнил проклятую старость, отсутствие лошади…
— Ну, значит, так, милая, — неприятным скрипучим голосом сказал он, с трудом оторвавши блеклые глаза от высокой груди Варвары. — Нам придется расторгнуть контракт с вашим супругом, поскольку он не справился со своими обязанностями. И я вам скажу, в чем тут дело: творческому человеку, такому, как ваш супруг, нужно книжки сочинять, а не журнал вести. А мы уж поищем служаку, простого, без фокусов, не фантазера, не Гоголя… И не Достоевского, кстати…
Но дальше Варвара не слышала. Хлопнув дверью так, что задрожали стекла в бывшем Юрочкином кабинете, она вылетела из него, забыв про больную поясницу, и застучала каблуками сперва по паркетному полу, а потом по гладкому, влажному от летучего дождя тротуару. Старые липы, помнившие, наверное, не только Гете, но даже и Шиллера, даже и Гейне, рванулись навстречу ей и, потирая свои очень мягкие, добрые руки, сказали немецкую длинную фразу. Варвара их не замечала.
Владимиров не был человеком не от мира сего и то, что в редакции за его спиной происходило какое-то движение и то, что начальство было недовольно им, почувствовал почти сразу. Но времени не было думать об этом: роман поглощал собой все. И так, как корабль, преодолевающий одну бурю за другой, движется от порта к порту, избавляется от одних грузов и пополняется другими в то время, как его молодая команда мужает, грубеет, тоскует без женщин, так этот роман продвигался сквозь темень, и ни одно слово его не было уверено в том, что уцелеет, не будет выброшено за борт, не пойдет ко дну и не разобьется о камни.
Когда его «волчонок», как Владимиров привык называть про себя Гартунга Бера, познал свою первую женщину, душа его взмыла в надмирную высь, и Владимиров, боясь потерять ее в этом огне, стучал на машинке так быстро, что буквы в словах пропускал без конца и вовсе не помнил о знаках. Маша и Гартунг были почти детьми, они ничего не боялись. В их близости не было места стыду, а все было так, как бывает в природе. Когда все закончилось и Гартунг Бер зарылся лицом в ее светлые волосы, он чувствовал счастье такой остроты, что даже дышать глубоко было больно.
«Гартунг уже не целовал ее, он просто наслаждался ее близостью и не хотел выпускать ее из своих рук никогда. Машиного лица он не видел, потому что его стриженая голова оказалась между ее грудью и животом, и когда он открывал глаза, он видел только шелковистую, блестящую от пота белизну ее кожи и розовый твердый сосок, до которого изредка, не целуя, дотрагивался губами. Наконец она осторожно перевела дыхание. Губы ее были полуоткрыты, на крупных верхних зубах поблескивала слюна, и нежный пушок рыжеватых подмышек был влажным.
— Меня скоро хватятся, нужно идти, — сказала она.
— Ты любишь меня? — спросил ее Гартунг.
— Конечно, люблю, — прошептала она. — Ведь мы теперь муж и жена.
Это прозвучало так неожиданно, что Гартунг смутился, а она закинула руки и обеими ладонями высоко подняла над затылком тяжелые желтые волосы…»
Варвара никогда не входила в комнату, когда Владимиров работал, но сейчас она влетела к нему без стука, и он обернулся, рассерженный.
— Что, Варя? Ведь я же работаю! Так же нельзя…
— Я их загрызу за тебя! — разрыдалась она. — Они нас уволили, Юра!
Первым, что он почувствовал, было облегчение. Теперь можно не ходить в редакцию, не читать скверных рассказов, не выбрасывать в мусорную корзину плохие стихи и не отстаивать свои решения в дурацких спорах. Он вдруг стал свободен. Но тут же другая, страшная мысль, что теперь он без работы, в незнакомой стране, без языка, с беспомощной женщиной на руках, обрушилась на него, и, стремясь защититься от этой мысли, он обеими руками схватился за голову.
— Я напишу на «Свободу», позвоню Завлатову! — кричала жена. — Им все это так не пройдет!
— Постой! Подожди, — перебил он ее. — На что будем жить?
Варвара, дрожа, опустилась на стул.
— А мы ведь должны за квартиру… — Она побелела. — Я этого так не оставлю, ты слышишь? Они на коленях к тебе приползут! Поверь мне! Они приползут на коленях!
— Опомнись ты, Варя! Какие колени?
— Но, Юра… Ведь нас пригласили…
Она бормотала бессвязную чепуху, и он, не вслушиваясь в ее слова, понимал одно: ей страшно сейчас, так же страшно, как ему, потому что они задолжали за квартиру, не знают немецкого, да и никакого другого иностранного языка тоже, и призрак нищеты, вечный призрак, вылезший из глубины памяти, стоял перед ними обоими. Владимирову вспомнилась мать, какой она была, когда состарилась и заболела, и поэтому цеплялась за него, льстила Арине, говорила, что никому не была так предана, как сыну, которому отдала всю жизнь и выгнала мужчину, не сумевшего заменить ему отца. Она все лгала, и он это знал, и Арина, и Катя, но все они делали вид, что так нужно, жалея ее, совсем старую, нищую…

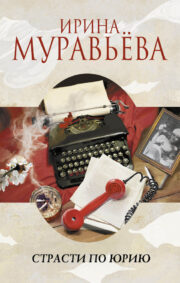
"Страсти по Юрию" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страсти по Юрию". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страсти по Юрию" друзьям в соцсетях.