— Напрасно вы думаете, господа, что гроза — это, так сказать, явление природы и ничего больше! — сказал вдруг Мишаня Устинов, с тоской наблюдая, как блондинка тихо тянет в себя апельсиновый сок. — Совсем не об этом идет разговор! Я лишь удивляюсь всеобщей наивности! Забыли про Марью Степанну? Сидят сейчас с милым супругом и до смерти рады, что все нам испортили!
— Вы, Михаил Валерьяныч, в мистику впадаете, — живо обернулся к нему один из живущих лет десять в Париже и вечно поэтому в розовом шарфе, весьма небездарный, но пьющий поэт. — У вас Марь Степанна — Ярило какое-то! Я с ними теперь и столкнуться боюсь!
— И правильно! Очень умно поступаете! — взвизгнул Устинов. — Но хуже Ярилы! Значительно хуже! И не удивляйтесь, если она в один прекрасный день на вас куколку сделает и начнет в нее иголочки втыкать! И будете вы, голубчик, то животом страдать, то головой мучиться! Вудизмом наша красавица увлеклась! У нее на всех на нас куколки сделаны! Я еще год назад не знал, что такое доктор и с чем его едят! А в последнее время из докторского кабинета не вылезаю! Поскольку втыкают иголки в меня! То в брюхо, простите за резкость, воткнет, то в задницу, я извиняюсь, конечно!
Он вызывающе посмотрел на блондинку, давая понять, что закончились нежности. Несговорчивая женщина выглянула в окно и заторопилась.
— А, это за мной! Спасибо вам всем и за все! Убегаю!
Вежливый внук старика Евторханова подхватил ее чемоданчик и помог вынести его из столовой. Простодушные, как дети, участники политической конференции, прилипнув носами к стеклу, увидели, как из подъехавшей машины выскочил невысокий, но очень приятный собою человек в темных очках, хотя и без того на улице было пасмурно, и вспыхнувшая блондинка, напрасно потратившая казенные деньги на свое пребывание в Бельгии, чуть было не бросилась ему на шею. Лицо у нее при этом было такое же, как у лермонтовской Тамары, когда ангелы вырывают ее из цепких объятий проклятого Демона и ловко, на крыльях своих мускулистых, уносят в далекое вечное небо. С той только единственной разницей, что та была черноволосой грузинкой, а эта всем обликом напоминала пригожую куклу из «Детского мира».
Вернувшись во Франкфурт, Владимиров решил как можно быстрее заняться журналом и, главное, избегать политических и всяких других свар и сходок. Однако и этого не получилось. Варвара, которая всю обратную дорогу в лицах изображала конференцию, сказала, что нужно журналу «придать направление».
— Какое? — хмуро спросил он.
— Посмотрим, посмотрим, — вздохнула она.
Владимиров подумал, что лучше бы сразу попросить ее не вмешиваться в редакторские дела, но увидел это ребячески вдохновенное лицо, огорчился и решил промолчать. Приехав домой, он сразу же вернулся к прерванному роману, начал писать, и это увлекло его так сильно, что первые две недели он с трудом заставлял себя отрываться от письменного стола. В Москве с ним нередко происходило то же самое, что сейчас: он ощущал, будто не хватает воздуха.
Роман начинался с того, что Гартунг Бер, только что похоронивший отца, переехал из Дюссельдорфа в Париж, где отчим поместил его в закрытую военную школу. Смерть, похороны, появление постороннего мужчины, к тому же француза, чужой город, но, главное, радость матери от того, что Гартунг не будет жить дома, — все заняло только пятнадцать страниц. Но Владимирову и не нужны были лишние подробности. Ему нужно было содрать кожу с того, что корчилось в глубине его собственного существа, к чему он так долго боялся притронуться.
«…ему было восемь лет, когда от матери ушел отец, вернее, ушел тот человек, которого он считал своим отцом, и мать, черная и высохшая от ужаса, неподвижно сидела на диване, закутанная в платок, курила папиросу за папиросой, не обращая на него никакого внимания. Не выдержав, он подошел к ней — неловкий вихрастый ребенок с обожженной щекой, — уткнулся в материнские колени и начал бормотать, что папа вернется и плакать не нужно…
Но мать оттолкнула его, закричала:
— А он тебе вовсе не папа!
Видимо, она сама испугалась того, что вырвалось из нее, но некуда было отступать, и, снова схватив его за плечи, снова притянув к себе, она прижалась своим лицом к его лицу так, что он почувствовал кончиком носа ее верхнюю губу и шершавую родинку над ней.
— Ушел, потому что не папа. Ты слышишь меня?
Он слышал, но не понимал и только задыхался оттого, что всю его грудь разламывало от какой-то дикой тоски.
— Ой, что мне теперь? Без него? — Мать вдруг начала раскачиваться на одном месте, как будто ее завели, как игрушку.
— А я? — И он захлебнулся слезами.
— Да ты-то при чем? — Не переставая раскачиваться, она безнадежно махнула рукой. — Всегда был обузой, а тут уж…»
В начале семидесятых московская интеллигенция прочла «Лолиту» и бурно восхитилась. Набоков не входил в число официально запрещенных авторов, но всякая книга, попавшая в Россию из-за границы, могла навлечь неприятности. Поэтому, когда однажды в гостях Владимиров сказал, что текст этот крайне ему неприятен, на его голову тут же обрушились упреки в трусости. Он понял, что лучше смолчать. Роман вызывал у него содроганье, и Владимиров не понимал одного: неужели никто не догадывается, что корень греха сладострастного Гумберта выкорчеван из сознания самого автора и автор, как человек, задумавший преступление, пересадил этот корень в первую попавшуюся, вымышленную жизнь только для того, чтобы чужими руками это преступление совершить?
Самое сильное детское переживание Гартунга Бера было одновременно и самым сильным детским переживанием Юрия Владимирова, который прятался за спиной подростка Гартунга так же, как Набоков прятался за спиной своего героя. Нацистский полковник Гартунг Бер, переживший в восьмилетнем возрасте материнское к себе отвращение, не смог забыть об этом, как переболевший оспой человек не может забыть о своей болезни, потому что лицо его остается изрытым ее следами.
Решаясь не просто писать о войне, но писать о человеке, виновном в смерти многих десятков людей не по безволию, не от страха, не по жестокости даже, а по убеждению, Владимиров взваливал на свои плечи тяжесть, которая могла сломить его самого. Но он и схитрил: заручился собою, поскольку они: и Владимиров Юрий, и вымышленный Гартунг Бер — слабели душою, пока подрастали, как телом слабеют другие подростки в том случае, если болезни их детства дают осложненье на важные органы. Как только Гартунг Бер убедился в том, что беспамятно-счастливая, только что похоронившая одного мужа и тут же выскочившая за другого Роза Мария Бер хочет избавиться от сына, который сейчас ей мешает, в душе разлилась пустота. Эту ледяную пустоту Юрий Владимиров особенно хорошо помнил: она была частью его самого. Она наступила в нем, как наступает зима. Было утро. Захлопнулась дверь за отцом, и чужая, с лицом, искаженным брезгливостью, женщина сказала ему, что он был ей обузой.
Идея Германии — любящей матери — возникла в романе отнюдь не случайно.
Варвара давно спала, разметав по подушке свои черно-синие волосы, а он все сидел за столом и курил. Перед его глазами желтела узкая тропинка. По ней шел нескладный худой Гартунг Бер и рядом с ним Маша Волынская. Дневник Бера, начатый им в Белоруссии в сорок первом году, сохранил все основные подробности их первой встречи.
«Она рассказала мне, что отец ее — русский офицер и они бежали от революции. Я многого даже не понял тогда. Она сказала, что им пришлось хлебнуть всякого, они даже часто ходили голодными. Но потом они попали сюда, и здесь, во Франции, им очень хорошо, потому что маман держит гостиницу. Еще она сказала, что ее маленькая сестра почти не понимает по-русски, и вдруг засмеялась, как будто бы это ужасно смешно. Я испугался, что ей станет скучно со мной, и хорошо помню, что страх потерять ее возник во мне даже прежде, чем я почувствовал, что люблю ее, и начал испытывать это постоянное к ней вожделение…»
Тропинка уступила место берегу реки, похожей на ту, где бледный, мучнистый Устинов пытался добиться любви своей душеньки. Маша и Гартунг сходились там каждый вечер, и Владимиров еле поспевал за ними: так быстро, так жадно набрасывались они друг на друга, так неумело, торопливо целовались сухими от волнения губами. Ни он, ни она не знали, как это делается, но природа, соединившая их, не допускала ошибок и чувствовала, что нельзя терять ни секунды драгоценного времени, поскольку шел тридцать третий год, и все, что грозило вот-вот уничтожить здоровую жизнь, уже подступило вплотную, и слишком уж красными стали на небе прожилки заката.
«— Постой, я сама, подожди…
Маша расстегивала блузку, ворот которой был сколот английской булавкой, Гартунг помогал ей, и в конце концов оба укололись этой булавкой, так что их смешавшаяся кровь оставила пятна на вышитом крестиком воротнике».
Окно, возле которого стоял письменный стол Владимирова, было открыто, и из палисадника снизу вдруг потянуло запахом бузины. Он разволновался до слез и вдруг ощутил, что самое важное есть этот запах, вдохнувши которого Маша сказала: «У нас и на даче так пахло, под Тулой».
А через десять лет, выйдя вечером из хаты, где он только что расположился на постой, Гартунг Бер, офицер СС, снова увидел желтую тропинку и снова почувствовал, как остро пахнет разросшийся куст бузины у колодца.
Между тем Варвара Сергевна отвечала на телефонные звонки, разрывающие редакцию. Юрочка был окружен врагами, и Варвара Сергевна поняла это сразу же. Он был слишком наивен и доверчив для такой сложной политической работы, какой была работа главного редактора в крупнейшем журнале эмиграции. И так же, как она спасала его в Москве от этих двух женщин — Арины и Кати, — про которых он не знал главного, а именно того, что обе они стремились подчинить его себе и в конце концов убить в нем великого мастера, так и здесь ей пришлось как можно быстрее разобраться во всех этих гнилостных хитросплетениях, во всех этих низких ловушках и дрязгах, где Юрочка сразу бы и очутился, ни будь ее рядом.

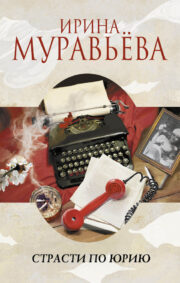
"Страсти по Юрию" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страсти по Юрию". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страсти по Юрию" друзьям в соцсетях.