С самого начала мотивы свадьбы были туманными. Мы оба надеялись на спасение. Мы царапали друг друга и плакали вместе. Днем мы враждовали, но потом мгновенно переходили от словесных перепалок к молчаливым занятиям любовью. А затем опять никто не знал, как мы будем себя вести и почему.
Перед тем, как приехать в Гейдельберг, мы провели два месяца, которые были столь же странными, как и наше решение пожениться. Мы пробыли там два ужасных месяца, приехали в Манхэттен, бросились в Сан-Антонио, Техас. Беннету коротко остригли волосы, обрядили в хаки и заставили часами сидеть на лекциях о том, что должен делать военный врач — хотя он ненавидел все это всем сердцем.
Я оставалась «дома», то есть в стерильном мотеле на окраине Сан-Антонио, смотрела телевизор, доводила до ума свои стихи, испытывая бешенство и бессилие. Как обычные нью-йоркские девушки, я никогда не училась водить машину. Мне было 24 года, я спала, и мне снилось, что я застряла в каком-то техасском мотеле между Сан-Антонио и Остином. Я проспала до половины одиннадцатого, проснулась, посмотрела телевизор, тщательно накрасилась (для кого?), пошла вниз, затолкала в себя завтрак, состоящий из оладий, сосисок и сока, надела купальник (который становился все уже и уже) и решила позагорать пару часов или около того, затем на пять минут окунулась в бассейн позади мотеля и поднялась к себе наверх, решив немного поработать. Но тут же я ощутила, что ничего не могу делать; одиночество и работа ужасали меня. На каждый довод я находила отговорку. Я не чувствовала себя писательницей и не верила в свое умение писать (я не могла не видеть всю мою жизнь, когда писала). Я сочиняла и иллюстрировала маленькие историйки, когда мне было 8 лет; я вела дневник с 10 лет; я превратилась в ненасытную любительницу писать письма в 13 лет. В 17 лет, когда я с родителями поехала в Японию, я потащила с собой портативную пишущую машинку «Оливетти» и проводила все вечера, фиксируя свои дневные впечатления и наблюдения. Я начала публиковать поэмы в маленьком литературном журнале, когда училась в старших классах в колледже (где я выиграла множество призов за поэтические произведения и издавала литературный журнал). Несмотря на очевидный факт, что меня преследовало желание писать, несмотря на письма от литературных агентов, которые спрашивали, работаю ли я над романом, я не могла поверить, что это на самом деле мое призвание. Взамен я позволила загнать себя в аспирантуру. Предполагалось, что аспирантура — это очень спокойное место, которое удержит меня на привязи (как младенца), прежде чем я окончательно научусь писать. Сейчас это представляется форменным идиотизмом, но тогда казалось очень осторожным, мудрым и ответственным решением.
Я была такой образцовой девушкой, что мои профессора старались навязать мне свою дружбу. Мне хотелось послать их к такой-то матери, но не хватало мужества; таким образом, я убила там два с половиной года, пока не догадалась, что аспирантура серьезно повлияла на мое образование в худшую сторону.
Брак с Беннетом вырвал меня оттуда, и я последовала за ним в армию. Что я еще бы могла сделать? Не так, чтобы я хотела оставить колледж — просто он отдалял меня от моих родителей и развлечений. Свадьба с Беннетом тоже отдаляла меня от Нью-Йорка, моей матери, моего экс-мужа, моих экс-ухажеров — всех, кто приходил мне на ум. Я хотела свободы. Я хотела убежать. Наша свадьба не была средством для этого. Она начиналась под этой тяжелой ношей.
В Гейдельберге мы обосновались в огромном американском концентрационном лагере, в послевоенной части города (совершенно непохожей на прекрасный старый район вокруг Шлос, который осматривают туристы). Наши соседи были большей частью армейские капитаны и их «домашние». За небольшим исключением, они были на редкость общительные люди, и я часто болтала с ними; их жены всегда приглашали меня — на чашечку кофе. Дети были буйно-приветливы и вежливы. Мужья источали галантность и предлагали помощь, чтобы откопать мою машину из сугроба или отнести наверх тяжелую поклажу. Это все было более чем изумительно. Разговоры между такими, как Беннет, сводились к тому, что жизнь на востоке дешевле, чем в Штатах, и что давно пора разбомбить Вьетконг к черту. Они относились к нам с Беннетом как к пришельцам из Космоса, мы сами это чувствовали.
Через дорогу жили наши соседи-немцы. В 1945 году они ненавидели американцев за участие в войне. Сейчас, в 1966 году, немцы стали пацифистами (по крайней мере, по отношению к другим нациям) и ненавидели американцев за происходящее во Вьетнаме. Если в Сан-Антонио все было чужим, то здесь, в Гейдельберге, было в тысячу раз хуже. Мы жили между двух противников, и в конце концов стали врагами между собой.
И я сейчас закрыла глаза, вспоминая обед в Марк-Твен Виллидж, в Гейдельберге. Радио Вооруженных Сил, по которому передают результаты футбольных матчей и (невероятно!) количество вьетконговских убитых на другой стороне мира. Плач детей. Двадцатипятилетние матроны из Канзаса повсюду бродят в домашних халатах и ожидают, как Золушки, какого-нибудь вечера, ради которого можно накрутиться. Он никогда не наступает. Вместо этого появляются коммивояжеры, топают по коридорам, трезвонят в двери, продавая все, что угодно: от энциклопедий с картинками до восточных ковров. Помимо приблудных американцев, завалящих англичан, пакистанских студентов, торгующих в сторонке, были немцы, торгующие игрушечными сахарными немцами, стоящими на масляных склонах сахарных Альп, и немцы с пивными кружками в руках, выстукивающими «Боже, храни Америку!», а в ответ раздается кукование кукушки из черного леса. И военные покупают, покупают и покупают. Жены покупают, заполняя свою пустую жизнь, создавая иллюзию быта в своих скучных квартирах, расплачиваясь сальными банкнотами. Дети покупают каски и автоматы, чтобы можно было играть в свои любимые игры в зеленых беретов, готовясь к будущей «взрослой жизни». Мужья покупают электрические вибраторы, чтобы нейтрализовать свою собственную импотенцию. Они все покупают часы: часы, символизирующие, что армия транжирит их жизнь. Однажды кто-то распустил слух, что на немецких часах можно сделать состояние в стране больших Оружейных магазинов, так что каждый капитан, сержант или младший лейтенант приносят домой за время службы, по крайней мере, тридцать штук, развешивают их на стенах и они висят там два года, звонят и кукуют через неравные промежутки времени, а от этого жена и дети вояки становятся такими же сумасшедшими, каким сам он стал от своей службы. Так как стены в домах были тоньше бумаги, даже те, кто (вроде нас) не держал кукушек, слышали это упорное кукование весь день. А если у соседей не было кукушек, то был ребенок, которому медведь наступил на ухо, а он упорно пытался играть на эймондовском органе, «наилучшем изумительном инструменте» (на котором, правда, невозможно играть), взятом по причине «невообразимо низкого ежемесячного взноса», и впрямь — слушать его было невообразимой пыткой. А если и этого не было, то орал какой-нибудь старший офицер, зовя домой детей (близнецов Вэйна и Двейэна — в добрую минуту он именовал их «шалунами»). Когда меня не злило кукование, то забавлял заключенный в нем символ: в армии каждый считает дни и минуты — еще восемь месяцев до смены, еще три месяца до того, как твой муж уйдет во Вьетнам, еще два года до возможного повышения, еще три месяца до того, как ты сможешь послать за женой и детьми… Кукушки фиксируют каждую минуту каждого часа на долгом пути к забвению.
За исключением того, что у нас не было кукушек, наша квартира не сильно отличалась от типичных офицерских квартир. Мебель была отвратительного немецкого производства, сделанная после войны и полученная американцами в качестве репарации. Несомненно, она была сделана необычайно отвратительно, словно в отместку. Сначала она была бледно-бежевого цвета, но сейчас, через двадцать лет, она стала сочной, покрытой пятнами цвета мочи и испещренной множеством древесных жуков. Мы положили наше лучшее покрывало на похожую на гиппопотама кровать; другими покрывалами закрыли похожие на слонов кресла; мы заклеили стену плакатами, подоконники заставили разнообразными цветочками в горшках; мы забили полки нашими книгами, но помещение осталось безжизненным. Гейдельберг сам производил гнетущее впечатление. Отличный город, в котором дожди идут 10 месяцев в году, и солнце, кажется, борется за появление на небе, захватывая позиции на час или около того, а затем отступает снова. И мы жили в этой тюрьме. Дух и интеллект не мог жить в этом гетто.
Беннет потерялся в армии и своей депрессии. Он не хотел помогать мне, я не хотела помогать ему. Я привыкла к прогулкам под дождем по улицам старого города. Я часами скиталась по нескончаемым универсальным магазинам, ощупывая товары и тыкая в них пальцами, хотя знала, что, наверняка, ничего не буду покупать; невольно подслушивала длинные разговоры, из которых понимала лишь обрывки фраз, слушала рекламу разносчиков товаров.
Несколько бесформенных, как картофелины, женщин окружили меня, создав серую стену из тканей. Германия наполнена армией таких женщин в серых плащах и тирольских шляпах, в огромных башлыках, с малиновыми щеками, на которых проступает сетка кровеносных сосудов, похожих на фотографию фейерверка. Такие крепко сбитые вдовы были везде; они носили матерчатые сумки с высовывающимися оттуда бананами, ездили на велосипедах, едва умещаясь широкими задницами на узеньких сиденьях, или на поездах, исполосованных дождем, из Мюнхена до Гамбурга, из Нюрнберга до Фрайбурга. Мир вдов. Окончательное решение, обещанное нацистской партией: мир без евреев и мужчин. Иногда одиночество становилось невыносимым, и я ездила на Штрассербах, там шла в кафе или, точнее, кафетерий в кондитерской, представляя, будто бы я — привидение еврея, убитого в концлагере и воскресшего на день. Кто скажет мне, что это не так? Я выдумывала сложные похождения духа в моей плоти, просто сюрреалистические рассказы, которые собиралась записать когда-нибудь потом. Но они оказывались большим, чем просто рассказы, и я никогда не записывала их. В это время я думала, что схожу с ума.

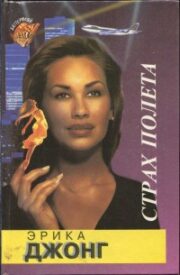
"Страх полета" отзывы
Отзывы читателей о книге "Страх полета". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Страх полета" друзьям в соцсетях.