Ну, по крайней мере связки моих драгоценных рукописей оставались в безопасности в сундуке. Впрочем, оставались ли? Не исключено, что монахини перерыли и сундук, выбросив все бумаги в огонь. Мысль об этом причинила почти физическую боль, перехватило дыхание, словно на грудь водрузили мельничные жернова. Сколько бессонных ночей провела я за столом, сидя над листом бумаги при свете свечи, вместо того, чтобы отдыхать после дневных трудов. Сколько часов украдено из обязанностей фрейлины, которые я посвятила письму, вместо того, чтобы стоять на ноющих ногах и деланно улыбаться фиглярским ужимкам королевских карликов. Три моих новеллы были опубликованы — анонимно, разумеется, дабы избежать внимания королевских цензоров. К вящему восторгу и удивлению, они очень хорошо разошлись и даже принесли мне некоторую сумму. В последнее время я работала над очередным рассказом, тайной историей Густава Шведского,[30] который надеялась опубликовать в самом скором времени. Неужели же теперь все мои труды пойдут прахом?
Голова моя металась по тощей подушке, и я особенно остро ощущала отсутствие волос. Я провела рукой по жесткому ежику.
Волосы всегда составляли предмет моей особой гордости. Даже когда я была совсем еще маленькой, ими очень гордилась Нанетта. Каждый вечер она расплетала и любовно расчесывала их, пока я рассказывала ей о своих маленьких горестях и радостях. Тогда Нанетта была еще молода, и в ее черных глазах светилась нежность, а не яростный огонь. Под белой шапочкой она скрывала светлые и красивые волосы, и еще у нее была большая мягкая грудь, к которой я так любила прижиматься.
Раз в неделю она втирала мне в кожу головы розмариновое масло и осторожно расчесывала волосы частой мелкой гребенкой, давя на старом льняном полотенце всех обнаруженных вшей.
— Смотрите, какая большая, — говорила она.
— Ну-ка, дай посмотреть. Ого, это целый дедушка-вошь. Он достаточно велик, чтобы оказаться даже прадедушкой.
— Не понимаю, откуда вы их набираете столько. Могу поклясться, что еще на прошлой неделе этой мерзости у вас не было. Или вы опять играли с детьми мельника?
— Ну да. А с кем еще мне играть, Нанетта?
— Только не с курносыми крестьянскими детьми, которых поедом едят вши.
— Мы строили крепость, Нанетта, и играли в религиозные войны.
— Ох, моя маленькая кочерыжка, не нравятся мне такие игры. Нельзя ли выбрать что-либо более подходящее? Например, поиграть в куклы?
— Но это же так скучно. А нам нравится устраивать сражения. Я была предводительницей реформистов, а Жак — главарем вавилонских блудниц…[31]
— Бон-Бон! Не смейте так говорить. Вы должны быть очень осторожны.
— Почему? — Повернув голову, я удивленно воззрилась на нее.
— Не все во Франции думают так, как ваша матушка, Бон-Бон. Не забывайте, что реформисты проиграли войну, а король — да благословит Господь его душу — католик.
Я вздохнула. Мне было трудно понять, как король может быть нашим монархом и врагом одновременно. Нанетта явно пребывала в расстроенных чувствах. Я видела это по тому, как тяжело двигалась ее рука с гребенкой.
— Ой, больно! Не дергай так сильно!
— Простите меня, пожалуйста. Так лучше? Смотрите, вот еще какая большая.
— О, это, должно быть, прабабушка. Посмотри у меня за ушами, Нанетта. Там — детская, где живут их детки. Как ты думаешь, у вшей тоже есть детские комнаты, Нанетта?
— Имея столько деток, они обязательно им понадобятся, — проворчала Нанетта, поворачивая мою голову в сторону, чтобы расчесать волосы над ухом.
— Когда вши вырастут, они взберутся на гору и станут высматривать врагов.
— Захватчиков, которые живут на головах детей мельника.
— Да. А потом они отразят их нападение… Как, по-твоему, чем сражаются вши, Нанетта?
— Зубами, наверное. Не вертитесь, Бон-Бон. Если будете сидеть смирно, я расскажу вам сказку.
Нанетта казалась мне кладезем всевозможных историй: забавных сказок об озорной шкатулке или жене рыбака, пожелавшей, чтобы нос мужа превратился в колбаску; страшных историй о великанах, которые поедали маленьких девочек; о гоблинах и злых духах; волшебных баллад о пастухах и пастушках, которые любили друг друга. Если Нанетта хотела, чтобы я сидела смирно, — например, завязывая мне шнурки на сапожках или подшивая оторвавшуюся кайму на подоле, — ей достаточно было пообещать мне историю, и я моментально прекращала вертеться и жаловаться и вела себя тихо и послушно, что ей и требовалось.
Интересно, где сейчас Нанетта? Уложили ли ее спать, или она трясется обратно в Версаль в том же самом экипаже? Она уже старенькая и слабая, и долгое путешествие изрядно утомило ее. Так что мне оставалось только надеяться, что сейчас она мирно спит где-нибудь, иначе мне пришлось бы умолять монахинь вернуть мне хотя бы часть денег, чтобы я могла заплатить за ее проезд обратно в замок Шато де Казенев. Она уехала оттуда вместе со мной тридцать один год назад, когда мне повелели прибыть ко двору, да так и не вернулась обратно. Я знала, что могу положиться на свою сестру Мари в том, что она позаботится о ней. При мысли об этом на глаза вновь навернулись слезы. Я так хотела, чтобы Мари гордилась мною, своей умненькой сестрой, ставшей фрейлиной королевской семьи.
Я услышала шарканье ног, кто-то вошел в келью. Я повернулась и приподнялась на локте. Это была сестра Эммануэль. В тусклом свете лампы, висевшей в коридоре, смутно белело ее длинное лицо с аристократическим носом. На ней была свободная ночная рубашка, а на плечи наброшена потертая старая шаль.
Вытерев слезы, я села на постели и уже отрыла рот, чтобы заговорить, но сестра Эммануэль приложила палец к губам и покачала головой. Я закрыла рот. Она коротко кивнула, взяла в руки маленький глиняный кувшин, стоявший рядом с моим убогим ложем, и налила чашку воды. Присев на кровать, она протянула ее мне. Я послушно выпила. Вода была ледяной, но она освежила меня. Я ощутила, как бьющая меня дрожь ослабевает. Эммануэль забрала чашку и поставила ее обратно на столик, потом приложила обе ладони к щеке, словно ребенок, делающий вид, что спит.
Утомленная, я откинулась на подушку. Она смочила мой носовой платок водой и осторожно вытерла мне лицо, как маленькой. От такой неожиданной нежности слезы вновь навернулись у меня на глаза, но я попыталась благодарно улыбнуться. У нее дрогнули уголки губ, и она протянула мне сложенный втрое клочок материи, который прятала в рукаве. Я вытерла глаза и высморкалась. Когда я смущенно протянула ей платок обратно, Эммануэль покачала головой, отказываясь взять его. Я сжала его горячей потной рукой и подсунула под щеку. Она погладила меня по голове. Я глубоко вздохнула и почувствовала, как начинает уходить охватившее меня напряжение.
Уже засыпая, я вдруг поняла, что край моего одеяла приподнимается. Меня обдало потоком холодного воздуха. Когда же я сонно пошевелилась и приоткрыла глаза, сестра Эммануэль забралась ко мне в постель, и ее холодная рука скользнула по моему телу и легла мне на грудь, больно стиснув ее. Она прижалась ко мне всем своим костлявым телом.
Разумеется, я знала, что иногда у женщин бывают возлюбленные обоего пола. У меня были подруги при дворе, которых насильно выдали замуж за дряхлеющих распутников или порочных повес, и они искали спасения от их навязчивого внимания в нежных женских объятиях своих знакомых. Мадлен де Скюдери,[32] которую я обожала, славилась салонами выходного дня, «субботами у Сафо», на которые допускались исключительно женщины. Мы читали друг другу любовные поэмы и писали рассказы о стране любви и гармонии, куда мужчинам был вход воспрещен, а женщинам не грозили их грубые домогательства. Раз или два женщины даже делали мне соответствующее предложение, но я всегда с улыбкой отказывалась. Однако же существовала большая разница между призывно изогнутой бровью и холодной костлявой рукой, стискивающей грудь, особенно когда нервы и так были натянуты, подобно струнам лютни, от страха и тоски.
Я резко повернулась и с такой силой толкнула ее, что она свалилась на пол.
— Не смейте, — вскричала я. — Убирайтесь отсюда!
Сестра Эммануэль приземлилась на свою костлявую задницу с громким стуком. Должно быть, ей было очень больно. Из соседней кельи до меня донеслось испуганное оханье. Я села на постели, прижимая к груди одеяло, и уставилась на нее. Я уже открыла рот, собираясь отпустить язвительное замечание, но при виде выражения, появившегося у нее на лице, язык мой присох к гортани. Она с ненавистью смотрела на меня, и взгляд этот обещал мне, что я еще горько пожалею о своем отказе. Несколько мгновений она молча стояла рядом, а потом приподняла занавеску и исчезла. Вся дрожа, я откинулась на подушку.
Сестра Эммануэль третировала и наказывала меня каждый день. Мне было приказано выносить ночные горшки по утрам и споласкивать их водой, такой холодной, что за ночь ведро покрывалось коркой льда. Я стала работать на кухне, где мыла посуду в грязной воде и чистила груды овощей. В мои обязанности входило выгребать золу из кухонных печей и камина в приемной, единственной комнате монастыря, где разрешалось разводить огонь. Мне также поручили пополнять запасы дров, так что мне приходилось выходить на двор и на холоде рубить поленья, отчего руки покрылись мозолями и покраснели. Сестра Эммануэль неизменно носила трость, которую пускала в ход всякий раз, стоило мне задержаться с выполнением ее приказаний.
Когда я была маленькой, меня никогда не били, несмотря на все угрозы Нанетты. Но как только маркиз де Малевриер стал моим опекуном, начали регулярно пороть, дабы изгнать из меня бесов, как он говорил. Впрочем, он потерпел сокрушительное поражение. После очередного столкновения с его березовым хлыстом я лишь с удвоенной силой принималась за свое.
Точно так же получилось и с сестрой Эммануэль. Чем больнее она била и унижала меня, тем медленнее я выполняла ее распоряжения, стараясь сохранить при этом достоинство. Однажды она застукала меня, когда я выразительно закатила глаза.

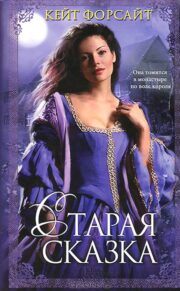
"Старая сказка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Старая сказка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Старая сказка" друзьям в соцсетях.