Что ж, кого теперь винить, как не себя. Мир, который Лариса так тщательно и кропотливо создавала, тот мир, где она сама себе казалась независимой и свободной и где основным маяком ей служил театр, рухнул. Она полагала, что искусство – волшебная сила, то, ради чего стоит жить и чему стоит поклоняться. Неужели она ошиблась? Неужели искусство – такая же грязь, предмет купли-продажи, как бизнес, политика, журналистика? Но политику положено быть жестким и расчетливым, бизнесмену – корыстолюбивым и торгующимся. А певцу, артисту, музыканту необходима искренность, самоотверженность, незащищенность. Иначе грош цена их ремеслу.
Раскрутиться, пробиться, сделать карьеру любой ценой, пусть посредством унижений, потери себя, чтобы потом стать признанным, известным, завоевать право беспрепятственно заниматься любимым делом и получать за это деньги, – стоит ли свеч такая игра? И кто толкает на это великое множество молодых и талантливых людей, доведенных до отчаяния нищетой, беспомощностью, удаленностью от Москвы, города, где могут сбыться самые смелые желания?
Возможно, никто. Каждый делает свой выбор сам. Но иногда этот выбор помогают сделать те, кто старше, умудренней опытом, кто уже достиг всего и получил право вершить чужие судьбы. Им доверяют, на них надеются, от них зависят, и платой за свою помощь и участие некоторые из них выбирают то, что выбирал старичок профессор, совмещающий успешное преподавание с другим, далеким от музыки, занятием…
«Калина» сменилась на «Ой, то не вечер да не вечер». Теперь к пению добавились взвизги и хохот. Пьяный женский голос настойчиво звал какого-то Петю, перемежая свои возгласы изощренной матерщиной. Окно распахнулось шире, в него высунулась рука в светлом пиджачном рукаве и выкинула на асфальт сигарету.
Лариса встала и понуро побрела в подъезд. Квартира выглядела сиротливо и неуютно: отклеившиеся повсюду обои, так и непросохшая окончательно мягкая мебель, запах сырости, витающий в комнатах.
Лариса сняла жакет, повесила его на вешалку, медленно прошла в гостиную. Взгляд ее сразу упал на телефон. Как она привыкла за эти дни бояться его, прямо-таки ужас испытывать при виде банального куска пластмассы, внутри которого скрывается низкий, угрожающий голос. Больше таинственный незнакомец никогда сюда не позвонит.
Она прослушала автоответчик. Два раза звонил Бугрименко, рассчитывал, видно, застать ее дома. На пленке оба раза: «Лариса Дмитриевна, позвоните мне на работу. Петр Данилович».
Затем еще какой-то звонок. Звонивший не оставил никаких сообщений.
Дальше, совсем недавно, примерно час назад, взволнованный голос Лепехова: «Лара, где ты? Срочно позвони, как придешь. Слышишь, срочно!»
И наконец, мама. Тон одновременно обиженный и заискивающий: «Доченька, ну как же можно так? Тебя не застать, сама не объявляешься. Я уж не знаю, что и думать. Целую, жду».
Лариса почувствовала, как сердце сжимается от жалости к матери и от стыда перед ней и отцом. Господи, живет в одном с ними городе, а не видит месяцами, не хочет видеть, тяготится их обществом. А ведь они абсолютно правы, особенно отец. Он много раз повторял, что ее работа не доведет до добра. Так оно и вышло. Именно на работе она встретила Глеба, втрескалась в него по уши и чуть не погибла из-за него. Хорошо, что ни мать, ни отец ничего не знают об этом и, надо полагать, не узнают.
Лариса поспешно набрала номер и почти сразу же услышала голос матери:
– Але, я вас слушаю.
– Мама, – Лариса сглотнула вставший в горле комок. – Мамочка! Это я.
– Ларочка! Милая! Наконец-то! Я вся извелась, два дня, как в Москве, позвонила тебе сразу, и ни слуху ни духу. Целыми днями трубку никто не берет. Все работаешь?
– Работаю. Как папа?
– Ничего, помаленьку. Помидоры давно собрали, недели две как. Я восемь банок закрыла да еще салат сделала, по новому рецепту. Мне Шура дала, очень оригинальный, и уксуса совсем немного надо. Отцу-то уксус нельзя.
Лариса слушала эту привычную речь о помидорах, салатах, уксусе, и ей становилось еще тоскливей. Наверное, мать права, и надо жить именно так. Варить борщи, закрывать банки, смотреть по вечерам любимые сериалы, отводить по утрам в сад малыша. Все остальное – от лукавого. Но почему же она, Лариса, не может так? Не может и никогда не сможет.
Мать, окончательно успокоившаяся, все продолжала свой простой, бесхитростный монолог, не замечая молчания дочери на другом конце провода, радуясь, что та объявилась и все хорошо.
– Погода хорошая, только ночи похолоднее стали. Чистяковы уже картошку копают, представляешь? – Она на секунду умолкла, потом нерешительно произнесла: – Тебе-то это все неинтересно, знаю. Ты расскажи… как там твой спектакль? Скоро готов будет?
– Уже готов, – Лариса предпочла бы, чтобы мать лучше продолжала говорить о картошке и помидорах.
Но та, видно желая сделать ей приятное, не унималась:
– Когда ж премьера? Я, может, Маковых приглашу, пусть на тебя посмотрят. Ты ведь там не совсем… – она запнулась, не решаясь сказать «совсем раздетая».
– Нет. У меня хороший костюм. Но премьера уже была.
– Давно? – разочарованно поинтересовалась мать.
– Сегодня.
– Так что ж ты молчишь? – всполошилась мать. – Все хорошо? Тебе хлопали? Ваш режиссер доволен?
– Да, все отлично, – Лариса устало прикрыла глаза, продолжая прижимать трубку к уху.
– Лара, ты вот что… – голос матери понизился, она явно опасалась, что ее услышит муж. Квартирка родительская была маленькая, комнаты смежными, слышимость стопроцентной. – Вот что., доченька, я давно все тебе сказать хочу. Ты на папу не обижайся. Он же не со зла, он добра тебе хочет, переживает. Ты ж у нас красавица, и соседи все так говорят, и знакомые. Семью надо… – она вдруг спохватилась, что снова говорит не о том, о чем хотела. – Ох, да не то! Не то я, дура, болтаю! Мы ведь понимаем, и я, и он, – ты не можешь без своего театра, без пения. И голосок у тебя чудный, есть в кого, в бабушку-покойницу, Веру Васильевну. Ее сколько раз из самодеятельности в музыкальное училище приглашали.
Не пошла. А ты – пой, никто тебя отговаривать не собирается. Лишь бы нам не ссориться да видеться почаще. Да, Ларочка? – Материн голос задрожал.
Лариса проглотила вновь, в который раз, подступившие слезы. ,;,.– Конечно, мам. Я приеду. Завтра, только не с утра.
– Еще бы с утра, – понимающе подхватила мать. – Тебе ж выспаться надо, шутка ли, такой спектакль отпеть! Ты ложись, детка, отдыхай. Мы тебя завтра будем ждать. Я пирогов напеку.
– Не перенапрягайся только чересчур, – попросила Лариса. – Папе привет передавай. Он спит?
– Где там спит! – сердито посетовала мать. – Телевизор смотрит. Там-то, на даче, не все программы показывают. Ну он и отводит душу. Все, не буду тебя больше мучить. Спокойной ночи!
– До завтра.
Лариса вернула трубку на рычаг. Села в кресло, устало вытянув ноги. Осторожно дотронулась до шеи. Болело еще сильней, чем два часа назад. Пожалуй, завтра надо будет сходить к врачу. А потом, глядишь, снова начнется прокуратура, только уже по другому делу. Скоро на пропускном пункте охранники начнут ее узнавать в лицо.
Позвонить Лепехову, что ли? Он, наверное, хотел узнать, как она, беспокоился. Что он теперь сделает с Глебом? Выгонит его? Или закроет на все глаза и оставит петь полный сезон? Понимает ли Мишка, что ему придется искать новую Джильду – она, Лариса, больше с Глебом на сцену не выйдет. Да и выйдет ли вообще, это тоже вопрос.
Лариса снова потянулась к телефону, но внезапно раздумала звонить Лепехову. Ну его в болото. Она сейчас ни с кем не хочет говорить. Спать! Принять горячий душ и в кровать. Может быть, удастся забыть хоть на несколько часов весь этот ужас! Удастся не думать о страшном голосе Богданова, о Глебе и его учителе, совратившем своего одаренного ученика и пристрастившем его к наркоте. О погибшей Леле Коптевой и ее маме. О том, каким пустым и бессмысленным будет завтрашний день…
Неожиданно и оглушительно зазвонил телефон. Лариса невольно вздрогнула. Лепехов? Значит, все-таки разговора с ним не избежать. Что ж, может, это и к лучшему – пусть прямо сегодня начнет думать о том, как спасти спектакль и где искать замену.
Лариса подняла трубку.
– Ты пришла? – подчеркнуто-безразличным голосом сказала ей в ухо Мила. – Хорошо. Я пыталась позвонить тебе на мобильный, но он, видимо, выключен.
– Не может быть, – возразила Лариса. – Он включен.
– Я не могла дозвониться.
– Погоди, я сейчас, – Лариса отложила трубку, сбегала в прихожую, вынула из сумочки позабытый там телефон. Действительно, тот был выключен. Видимо, после разговора с Бугрименко она машинально его выключила.
Она вернулась в комнату.
– Ты права, я выключила его, сама не помню когда.
– Ну вот видишь. Я беспокоилась. Как ты?
– Ничего, – подавленно проговорила Лариса.
Честно говоря, она ждала от подруги большего участия и сострадания. В тоне Милы, несмотря на ее слова о беспокойстве, не звучало ни волнения, ни жалости.
– Где была?
– Так, по делам.
– Снова секреты? – Мила усмехнулась. – Ладно, не хочешь – не говори. Главное, что ты в порядке. Я за этим и позвонила.
– Спасибо, – обиженно поблагодарила Лариса. Тоже подруга называется. Человека чуть не пришили, а она еле слова цедит сквозь зубы. Ладно, и это переживем.
– Я устала, – сухо сказала она Миле. – Если не возражаешь, поговорим подробней обо всем завтра. Хочу лечь пораньше.
– Да, я поняла, – совсем чужим, замороженным голосом произнесла Мила. – Хорошо, отдыхай, не буду тебе мешать.
В трубке послышался странный звук, похожий на всхлипывание. Лариса прислушалась с недоумением.
– Эй! – окликнула она подругу. – Ты что? Случилось что-нибудь?
В ответ снова раздался всхлип, уже отчетливый и громкий.
– Мила! – позвала встревоженная Лариса. – Ты слышишь меня? В чем дело, я спрашиваю?

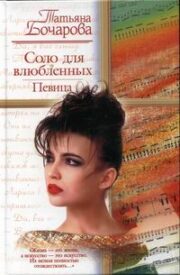
"Соло для влюбленных. Певица" отзывы
Отзывы читателей о книге "Соло для влюбленных. Певица". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Соло для влюбленных. Певица" друзьям в соцсетях.