– Я знаю, я вел себя, как последняя свинья, – он обнял ее за плечи. Сначала осторожно, потом, не встретив сопротивления, уверенней. – Пожалуйста, прости. Давай все забудем. Просто ты явилась без предупреждения, наговорила всяких сверхъестественных вещей… Ну сама подумай, похож я на убийцу ребенка? – Он жизнерадостно улыбнулся. У Ларисы по спине прошел холодок.
Оборотень. Как тот юноша из старинной легенды, который днем бывал милым и обаятельным, а по ночам превращался в огромного белого волка и подстерегал на дороге все новые жертвы. Чего он хочет от нее? Молчания? Но ведь она ясно дала понять ему, что не собирается заявлять в милицию о том, что знает. Или он все-таки не понял? Не поверил? Решил подстраховаться на всякий случай.
– Так ты меня прощаешь? – прошептал Глеб ей в самое ухо. – А, Ларискин?
– Да, – едва разлепив пересохшие губы, выдавила Лариса.
– Это хорошо, – обрадовался он и снова поспешно скользнул взглядом по залу. Видимо, на этот раз он заметил кого-то, потому что поспешно отодвинулся от Ларисы на некоторое расстояние. – Ладно. Сейчас пора готовиться к прогону, а после поговорим. Я сегодня вечером намерен тебя навестить. Не против?
Увидим, – сухо пообещала Лариса. Ей внезапно показалось, что кто-то пристально смотрит прямо на нее. Ощущение было не новым. После встречи с Бугрименко оно возникало уже бог знает в какой раз.
Она быстро обернулась. Никого. Чуть поодаль от сцены Мила о чем-то оживленно спорила с Саприненко. У левой кулисы тихонько беседовали Артем и Женька Богданов. Прямо из центра зала на Ларису задумчиво глядел Лепехов, теребя короткие, жесткие усы.
– Давайте начинать, – крикнул он, встретившись с Ларисой глазами.
Труппа послушно поползла за кулисы. Осветители включили прожекторы. Музыканты в оркестровой яме затянули нестройное и заунывное «ля».
Лариса спохватилась, что, придя почти позже всех, не успела переодеться, но, вспомнив, что Лепехов в последнее время больше не настаивает на каждодневной репетиции в костюмах, махнула рукой. Завтра еще прогон, уже настоящий, генеральный. Завтра она и отрепетирует при полном параде. А сегодня – не это главное.
Ей казалось, что она стала машиной. Послушной, умной машиной, идеально верно и правильно отрабатывающей нужные движения, знающей, где ей вступить, какой сделать жест, как взять дыхание.
Она касалась Глеба своим телом, изображала трепет в его объятиях, подставляла губы для поцелуев и… ничего не чувствовала. Это напоминало наркоз, при котором оперируемая часть плоти не чувствует боли, а лишь противно немеет. Лариса дала себе установку победить владевший ею страх перед Глебом, и страх умер под натиском воли. Но вместе с ним умерло еще что-то, ценное и жизненно важное, обратив Ларису из человека в робота.
Так прошли почти четыре часа репетиции, идущей с небольшими перерывами. Она спела все, вплоть до каденции, чисто, идеально чисто и точно, как, пожалуй, не пела никогда.
Наконец, мертвую Джильду вынесли в мешке, Риголетто пропел над ее телом свою последнюю, трагическую арию, оркестр взял заключительный аккорд. На сцене наступила тишина.
Лариса оперлась на руку Артема и поднялась, в ожидании глядя на Лепехова. Тот казался мрачным и угрюмым, каким его редко видели певцы.
– Ну что, как? – подал голос Саприненко.
– Скверно, – лаконично ответил Лепехов.
– Почему? – изумился Богданов. – По-моему, солисты пели грандиозно. Особенно Лара. Кажется, она сегодня решила заткнуть за пояс Монсерат Кабалье. Фантастическая техника.
– Верно, – согласилась Мила.
– На черта мне нужна ее техника! – неожиданно взорвался Лепехов. – Я вас спрашиваю, зачем мне эта говенная техника, если за ней совершенно отсутствует душа! Лара, милая, ты что, нездорова сегодня?
– Здорова, – едва слышно проговорила Лариса, мечтая провалиться сквозь деревянные подмостки. Лепехов прав, абсолютно прав. Глупо было надеяться, что он не заметит ее состояния, польстившись на безукоризненное звучание вокала. Опера – это не только вокал, это еще и театр.
– А по-моему, больна, – отрезал Мишка и сокрушенно взялся за голову. – Ну как же так! На предпоследней репетиции! Что с тобой случилось? Ведь ты играла гениально, пела точно жила! Я нарадоваться не мог, не верил в собственную удачу, хвалил себя за то, как угадал с ролью. И что ты творишь? – Он обвел больными, круглыми глазами притихшую труппу, приблизился к сцене. – Я умоляю тебя, завтра так не поступай! Как угодно, но верни то, что было. Иначе у меня будет инфаркт. Или инсульт. Или и то и другое одновременно. Виновата в этом будешь ты. Поняла?
Лариса кивнула. Слова Лепехова не казались ей фарсом или оскорблением. Нет, она знала, что так и будет. Мишка вкладывал в «Оперу-Модерн» всего себя без остатка, и не дать на сцене ожидаемого им результата означало попросту загубить его. Во всяком случае, заболеть от огорчения Лепехов действительно мог. С ним такое иногда случалось.
– Все свободны, – устало объявил Лепехов. – Попрошу завтра собраться заранее, не забывайте, что это главная и последняя генеральная репетиция. На нее приглашено много людей, так что считайте, что это почти премьера, – едва договорив, он повернулся спиной к сцене, на которой стояли певцы, что выражало крайнюю степень режиссерского недовольства.
– Ну уж это положим, – тихо пробормотала за Ларисиной спиной Мила, имея, вероятно, в виду, что премьера все же отличается от репетиции, пусть даже и генеральной.
Лариса молча, ни на кого не глядя, побрела за кулисы. Ей хотелось дождаться, пока основная масса труппы разойдется, и только потом спуститься в зал. Она боялась, что придется с кем-то обсуждать адресованные ей лепеховские замечания, давать какие-то объяснения по поводу своего самочувствия и настроения. Делать все это она была не в силах.
Лариса остановилась в узком коридорчике, ведшем к лестнице вниз, в подсобное помещение под сценой. Здесь был полумрак, едва уловимо пахло пылью и папье-маше – рядом находилась комната для хранения реквизита.
Так опозориться! Довести до гнева Лепехова, тишайшего Лепехова, всегда тактичного и деликатного по отношению к ней! Но что она, Лариса, могла поделать, если даже приблизиться к Глебу для нее стало сущей мукой после вчерашнего?
Наверное, нужно было прислушаться к внутреннему голосу, советовавшему ей не ездить на репетицию. Как, черт возьми, можно петь партию с человеком, которого подозреваешь в совершении преступления и шантаже? О какой душе в исполнении может идти речь?
Чьи-то руки мягко обхватили Ларису за талию.
– Ты что удрала? – Это был Глеб. Неизвестно, как ему удалось подкрасться сзади так по-кошачьи неслышно. Он заглянул ей в лицо, улыбнулся ободряюще. – Расстроилась? Брось! По-моему, ты пела отлично, разве что несколько холодновато. Но это с каждым бывает. А Лепехов просто зажрался, вот и придирается. Поработал бы он с нашими примами в Нижнем, они бы ему показали душевное исполнение! Каждая весом в центнер, как пройдется по сцене, аж пол дрожит.
– Перестань, – Лариса аккуратно освободилась из его объятий. – Мишка абсолютно прав. Поезжай домой. Я устала.
– Я приеду вечером?
– Не стоит.
– Но почему? – искренне огорчился Глеб. – Я ведь соскучился! Почему мы стали все время ругаться?
– С чего ты взял, что мы ругаемся?
– Ну, здравствуйте, – он попытался снова обнять ее, и она отступила на шаг. – Ага, не ругаемся! А это как называется? Я все-таки приеду сегодня. Обязательно. И даже не вечером, а… прямо сейчас. Поехали вместе.
– Нет.
– Да что случилось? Все дуешься за вчерашний разговор, за сигареты эти несчастные? Сама говорила: не будь занудой!
– Я говорила о другом, – Лариса решительно отступила от Глеба еще на несколько шагов.
Ладно тебе пятиться! – Он досадливо махнул рукой. – Я же ничего не делаю, стою на месте, как телеграфный столб! Хорошо, не хочешь сегодня, давай увидимся завтра. Согласна?
– Не знаю.
– Значит, согласна, – подытожил Глеб. – Мой тебе совет – выспись как следует и ни одной минуты не думай о том, что сказал Лепехов. Ты в этой опере лучше всех. Пока! – Он повернулся, стремительно прошагал по коридору и скрылся за кулисами.
Лариса стояла не шевелясь, не зная, верить ли своим глазам. Что это, дьявольская игра или искреннее, естественное поведение? Как ей раскусить его, как избавиться от его власти?
«Ты в этой опере лучше всех!» – эти слова все звучали в ушах у Ларисы и были для нее самой прекрасной, самой лучшей на свете музыкой. Можно отбросить слова «в опере», и тогда останется «ты – лучше всех». Именно это слышала только что она в голосе Глеба. В нем были нежность и страсть – то, что не могло оставить ее равнодушной, то, что окрыляло, заставляя забыть про все страхи.
Она поколебалась еще мгновение и бегом бросилась по коридору. Быстрей, пока он еще в зале, пока не ушел! Пусть будет рядом, пусть никогда больше не уезжает, не оставляет ее одну!
Глеба в зале не было. Мила, сидя на стуле и раскрыв пудреницу, не спеша подкрашивала губы. Она перевела взгляд на появившуюся из-за кулис запыхавшуюся Ларису, затем выразительно посмотрела на дверь зала, но ничего не сказала.
– Подвезти тебя? – спросила Лариса, подходя к ней.
– Подвези, – охотно согласилась Мила. – Устала как собака, и ноги гудят. Ты не спешишь? – Она пристально взглянула на Ларису, пряча зеркальце в сумку.
– Нет.
Да он недавно только ушел, – не выдержала Мила. – Ты могла бы его догнать. Опять поцапались?
– Я не хочу его догонять, – сухо проговорила Лариса. – И вообще, кто тебе сказал, что я его разыскивала?
– А то по тебе не видно! – насмешливо протянула Мила и встала. – Вылетела из-за кулис на четвертой скорости, того и гляди, взлетишь!
– Просто я хотела кое-что сказать Лепехову, пока он не ушел, – соврала Лариса.
– Так Лепехов вон он, – ехидно заметила Мила и указала в дальний угол зала, где действительно, скрючившись и став почти незаметным, сидел Лепехов и слушал в наушниках на плеере запись репетиции.

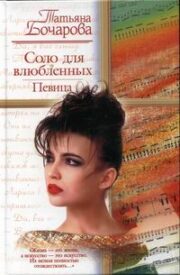
"Соло для влюбленных. Певица" отзывы
Отзывы читателей о книге "Соло для влюбленных. Певица". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Соло для влюбленных. Певица" друзьям в соцсетях.