— Я люблю тебя, — тяжело дыша, ответил Эйнар, и в его глазах под опухшими веками появился страстный лихорадочный блеск. — Люблю так, что надо мной вся дружина смеется. Я уже две головы проломил — тем, кто смеялся слишком громко. Но я не такой дурак, чтобы на что-то рассчитывать. Не мучай меня, Эллисив. Ты ведь знаешь, что это невозможно. Сейчас я скажу тебе «да», я же не идол каменный, я не могу этого выдержать, но даже если это безумие удастся и нас не поймают, мы не будем счастливы. Мы не ровня, такие браки не удаются. Я видел…
Елисава помолчала, глядя ему в лицо, спустилась еще на одну ступеньку и крепко обняла его за шею. Она понимала, что Эйнар во всем прав, хотя, без всякого сомнения, мало кто был бы так благоразумен на его месте. Он и правда любил ее и именно потому отказывался. Кончались последние мгновения ее свободы, когда она принадлежала себе. Елисава торопливо поцеловала его, и Эйнар ответил на ее поцелуй с какой-то лихорадочной готовностью, тоже зная, что это в первый и последний раз. Но даже сейчас Харальд уже был рядом — этим поцелуем Елисава мстила ему за те путы, которые он на нее наложил.
У дверей гридницы послышались шаги и голоса. Мгновенно оторвавшись от Эйнара, Елисава бросилась вверх по лестнице. Кто-то внизу засмеялся, знакомый голос выкрикнул что-то шутливое: вошедшие гриди заметили девичью фигуру в верхних сенях, но никому не могло прийти в голову, что это была старшая княжья дочь. Эйнар что-то отвечал, и в его голосе звучала неприкрытая досада… Елисава захлопнула дверь передней горницы и прижалась к ней спиной. Вся ее девичья воля осталась там, внизу, потерянная навсегда.
Несколько дней прошли в пирах и забавах. Харальд предлагал Ярославу и Фридриху устроить воинские состязания между их тремя дружинами, но понимания не встретил. Щедрой рукой он раздавал подарки из своей добычи, чем заметно сгладил общую настороженность киевлян. К Елисаве Харальд теперь обращался с подчеркнутой учтивостью и вел себя почтительно, стараясь показать, что он не такой неотесанный чурбан, как она, по всей вероятности, подумала. Но Елисава не торопилась проявлять благосклонность и не садилась рядом с ним, когда он ее приглашал.
— Видимо, нам придется объявить о вашем обручении, — сказала ей однажды мать. — Если сам князь откажет Харальду в твоей руке, он не преминет заявить, что его обманули, потребует назад все свои сокровища, а потом еще соберет на нас войско — благо ему это уже по средствам. А мы сейчас не можем с ним расплатиться. Ты знаешь, во что нам обошелся греческий поход и как нас подкосили запросы Ульва. У нас один выход — тянуть время до осени. Отец скажет Харальду, что он согласен на брак, но решать будем ты и я, а принуждать свою дочь князь не станет. Пусть Харальд сам завоевывает твою любовь. Ты достаточно умна, чтобы не сдаваться слишком быстро. — Княгиня улыбнулась и погладила дочь по руке.
— Но на самом деле, выходит, у меня нет выбора?
— Выходит, что нет. Такова судьба всякой знатной женщины. Тебе еще повезло, поверь мне. Харальд будет великим конунгом, у него на лбу написано, что он всегда добивается своего. Я не знаю другого человека, чья удача была бы так сильна. И тебя не повезут в чужую страну, чтобы отдать чужому человеку, словно рабыню. Я, например, не видела вашего отца, пока не приехала в Хольмгард на собственную свадьбу. Он почти на пятнадцать лет старше меня, был уже вдовцом, имел взрослого сына от первого брака, который женился одновременно с нашей свадьбой! А я любила другого и потеряла его. Поверь мне, твоя судьба почти счастливая. Ты красива, умна. Постарайся заставить Харальда полюбить тебя — в первую очередь это пойдет на пользу тебе, Елисава, раз уж ты будешь с ним жить.
Елисава не спорила с матерью, признавая умом ее правоту, но в душе не могла с этим согласиться. Казалось бы, она так давно мечтала о замужестве, мечтала стать королевой — и вот все это пришло к ней, ей предлагают мужа и в недалеком будущем трон. Уж с поддержкой могущественного тестя Харальд сумеет настоять на своих правах и приберет к рукам если не всю Норвегию, то хотя бы половину, заставит Магнуса поделиться властью. Кстати, именно за Харальда она собиралась замуж, еще будучи маленькой девочкой. Маленькой глупой девочкой… Сбывались все ее мечты — не жизнь, а сказка! Так почему же в действительности все это оказалось так тревожно, неудобно и даже больно?
Стараясь показать, что к Харальду и его подаркам она совершенно равнодушна, Елисава однажды вышла в гридницу, нарядившись в то синее блио, которое княжьим дочерям преподнес герцог Фридрих. Переодевание сопровождалось бурей смеха и причитаниями кормилиц и боярынь.
— Да разве можно в таком на люди являться, срам-то какой! — Будениха всплескивала руками и чуть не плакала. — Да что о тебе люди подумают, брусничка ты моя боровая!
— Все королевы такое носят, немец же говорил! — со смехом возражала Елисава. — А мы чем хуже? Вон, хоть у нее спроси. — Она кивнула на Гертруду.
Польская княжна Гертруда, дочь покойного короля Метко Второго и сестра Казимира, на родине уже видела такие платья и единственная здесь знала, как надевать блио. Иначе они едва ли справились бы, и пришлось бы, пожалуй, самого Фридриха звать на помощь.
Платье и впрямь было весьма смело для Руси и Византии, которую здесь по привычке все еще держали за образец. Блио состояло из двух частей: верхней, которую Гертруда назвала «жипон», и нижней — длиннющей юбки с хвостиком сзади, волочащимся по полу. Верхняя часть, до талии, благодаря шнуровке очень плотно облегала тело. Когда Елисава надела блио и Гертруда с Куницей вдвоем затянули шнуровку, Святша, позванный поглядеть, протяжно свистнул, изумленно вытаращив глаза. Привыкший к тому, что византийские столы и широкие славянские рубахи надежно скрывают женскую фигуру, он впервые смог убедиться в том, что его старшая сестра обладает весьма красивой грудью, тонкой талией и изящно очерченными бедрами.
— А можно я Боряту позову… посмотреть… — только и пробормотал он. — Мы такого и на Купале не видали…
— Неужто есть на что посмотреть? — усмехнулась Елисава.
— А то! — весомо ответил княжич.
— Ну, если ты младшего брата сразила наповал, то остальные и вовсе под столы попадают, — хмыкнула Предслава. — Ты что, и правда в таком виде вниз идти собралась?
— Чем я хуже Агнессы де Пуатье? — Елисава окинула сестер, брата и ближних женщин надменным взглядом. — Пояс подайте.
Пояс тоже был среди подарков: узкий, из расшитого жемчугом красного шелка. Гертруда несколько раз обмотала им талию Елисавы, а концы спустила на бедра и завязала узел, пришедшийся на то место, к которому порядочные женщины не привлекают внимание чужих мужчин. Но на это Елисава не согласилась и, несмотря на уверения невестки, что именно так и надо, перевязала по-другому.
— Косу бы распустить, — заметила Гертруда, с сомнением оглядывая плоды своих трудов. — У немцев девы с косами не ходят.
— А у нас косу распускают два раза: когда замуж идут и когда в гроб ложатся, — ответила Елисава. — Мне в гроб рано, я не Харальд, чтобы в домовине от трудов отдыхать… Так оставлю.
И отправилась вниз.
Сказать, что вид ее поразил приближенных и гостей отца, значит ничего не сказать. В гриднице повисла тишина — кмети, бояре, воеводы вытаращили глаза при появлении старшей княжьей дочери. Женское тело в таких подробностях они не всегда видели даже на купальских праздниках, а синяя ткань оттеняла глаза, делала их темно-голубыми и усиливала блеск. Княгиня Ингигерда усмехнулась и прикрыла ладонью рот, князь Ярослав переменился в лице, хотел что-то сказать, но промолчал. Зато герцог Фридрих расцвел, подошел и принялся восхищаться красотой принцессы Элисабет. Ему не только понравилось зрелище, но и польстило внимание к его подаркам. Он даже попытался перевязать пояс по-своему, но Изяслав весьма решительно посоветовал ему убрать руки подальше от сестры, и Фридрих, извиняясь, отступил даже раньше, чем толмач успел перевести, сделав речь молодого князя в три раза вежливее. Елисава уселась и некоторое время забавлялась, глядя, как косятся на нее мужчины и какими путаными и бессвязными стали их разговоры с ее появлением.
А потом пришел Харальд, об отсутствии которого она уже успела в душе пожалеть. Он окинул ее внимательным взглядом, сначала сверху вниз, потом снизу вверх, и в глазах его загорелось нечто такое, отчего Елисава невольно смутилась. И Харальд сказал:
Видел скальд довольно
Блеск долин ладейных,
Лучше в сих палатах
Ветвь нарядов светит.[17]
У Елисавы екнуло сердце: стихи — опасная вещь, стихи о женщине не только прославляют ее красоту, но и могут служить приворотом. Однако, не подавая виду, что встревожилась, она скрыла волнение за внешним пренебрежением и, улыбнувшись, снисходительно промолвила:
— Не очень-то складный стих для такого прославленного и искусного скальда, как ты, Харальд.
— Зато сложен быстро и без потуг.
— Что легко дается, то недорого ценится.
— А кто пренебрегает дарами, тот не очень-то их достоин. Вижу, дары Фридриха ты ценишь больше, чем мои. — Харальд, явно задетый пренебрежением, сердитым взглядом окинул блио.
— Дар ценится по тому, насколько высоко стоит даритель. Это платье я получила в дар от владетельного герцога. А каков твой титул, Харальд сын Сигурда? — Елисава выразительно подняла брови.
Харальд стиснул челюсти, на лице его отразилось едва сдерживаемое бешенство. Елисава была рада, что так чувствительно его задела, но где-то в глубине души шевельнулся ужас: а ну как ураган вырвется на свободу?
— Будь ты мужчиной, я бы не позволил тебе говорить такие слова, — с угрозой произнес Харальд, сверля ее глазами.
— Будь я мужчиной, разве ты сложил бы стихи в честь моей красоты? — Елисава усмехнулась, довольная, что принадлежность к женскому полу позволяет ей безнаказанно совершать то, что не сошло бы с рук никому другому.

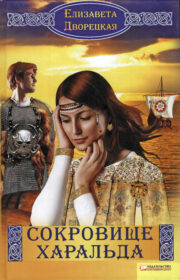
"Сокровище Харальда" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сокровище Харальда". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сокровище Харальда" друзьям в соцсетях.