Они были дома.
Позднее, в тот же вечер, Стефано стоял в дверях кухни и наблюдал, как Пит приклеивала на какой-то предмет кусочек кобальтового стекла.
Чем я заслужил, — спрашивал он себя, что делал уже так много раз после рождения дочери, — этого очаровательного ребенка, это существо такой многообещающей красоты, что сердце мое поет от радости, а в глазах появляются немужские слезы? Молча он поблагодарил свою мать, поскольку с первого взгляда было видно, что гены Коломбы преобладали в ее внучке. Единственное, что она унаследовала от матери, это ее фарфоровую розовую кожу и стройную фигуру.
Она должна быть счастлива, подумал он с силой, которая буквально сдавила его плечи. Она будет. Он был уверен, абсолютно убежден, как ни в чем другом, что будущее, связанное с драгоценностями, не поможет достигнуть этой цели. Драгоценности приносят горе, приводят к ненависти и опустошению, надрывают сердце. Он не позволит никому и ничему разбить сердце дочери, как) было разбито его.
— Такая трата времени, — начал он, — это слепое увлечение драгоценностями, когда ты могла бы заняться чем-то важным.
Пит удивленно подняла глаза. Она не слышала, как он вошел, иначе убрала бы предмет, над которым трудилась. Пит прекрасно знала, что думает отец о ее хобби.
— Мне нравится это, папа. Я получаю удовольствие от такой траты времени.
— Куда это тебя приведет? Неужели ты хочешь, как твой дед, корпеть дни напролет над безжизненными камнями с молотком и резцом? Или, может быть, тебе нравится карьера продавщицы за ювелирным прилавком?
— Почему бы и нет? — Ювелирные прилавки были любимым местом времяпрепровождения Пьетры с восьми лет. А в девять самым большим удовольствием было, когда дед брал ее с собой на выставку великого Джина Шлумбергера в Вайлденстайн Гэллери. Она так же уверенно ходила по торговым залам Тиффани, Картье и Гарри Уинстон, как дома по своей кухне.
После школы, прежде чем пойти в мастерскую деда, она всегда прогуливалась по Пятой авеню, чтобы полюбоваться сверкающими витринами, полными драгоценностей. Она часами могла стоять перед лотком с брошками, изучая изгиб эмалевого крыла бабочки, оттенки опала в платине, яркость звезды в звездном сапфире.
— Потому что ты способна на большее, вот почему, — ответил Стефано. — Потому что ты живешь в стране, где у тебя есть шанс получить хорошее образование, если ты просто ухватишься за него!
Потому что я не хочу, чтобы драгоценности испортили тебе жизнь, как мне, мог добавить он, но сдержался.
Пит уже было собралась убрать предмет, когда отец сказал:
— Не беспокойся. Я сейчас ухожу.
Несколько раз в неделю он по вечерам ездил на Малберри-стрит, сердце маленькой Италии в Нью-Йорке, где мог посидеть за стаканчиком вина со своими вырванными, как и он, из родной почвы соотечественниками, и делать вид, что он по-прежнему все тот же миланский юноша-идеалист или партизанский герой в Апеннинах.
Как только он ушел, Пит возобновила прерванное занятие. Когда она закончила, было уже одиннадцать и у нее болела шея. Она не осознавала, как долго сидела, согнувшись над столом, пока не взглянула на красные пластиковые часы над плитой. Целых три часа.
Работая над предметом, она могла выкинуть все остальное из головы. Она не слышала повышенных голосов отца и деда, спорящих о деньгах, о ее матери или вообще ни о чем конкретном, их единственный выход эмоций по поводу несбывшихся надежд. Она не задумывалась над тем, как сильно ей не хватает матери. Она забывала об уродстве улиц за окном, с разбросанной кругом бумагой, о насилии, которое поджидало за каждым углом, и о насмешках окрестных детей.
Когда она работала, оставалось только равновесие цветов, то, как одна поверхность поглощает или отражает свет в отличие от другой, симметрия рисунка. Было только сильное желание создать нечто красивое и долговечное.
Она посмотрела на результат своей работы: простая целлулоидная гребенка, щетка из свиной щетины и детское зеркальце, сделанное из блестящей стали, вставленное в розовый пластик, — но они были превращены в подарок ко дню рождения ее красивой матери.
Месяцами она собирала изящную, тонкую, как шелк, фольгу от жевательной резинки «Джуси Фрут», выпрашивала обертки у одноклассников и даже тратила драгоценные десятицентовики, покупая сладкую дрянь, которую сама никогда не жевала. Тщательно и осторожно она отдирала фольгу от бумажной подложки и разглаживала ее. Она использовала ее вместо серебряного листа, который не могла себе позволить, наклеивая ее на гребенку, щетку и зеркало, расправляя каждый пузырек, пока принадлежности не стали полностью посеребренными.
С помощью крошечных бусинок и кусочков пляжного стекла, которым дедушка помог придать форму на шлифовальном круге, она воспроизвела витраж собора Шартре во Франции на задней стенке зеркальца. Она отыскала картинку в библиотеке. Богатство красок, симметрия рисунка одновременно казались спокойными и трепещущими. Пит сочла его идеальным символом покоя и надежды, и ей хотелось, чтобы в ее матери он пробудил те же чувства. На обратной стороне щетки был тот же рисунок, выполненный из кусочков раковины с опаловым отливом. На гребенке ее фантазия разыгралась, выложив из пляжного стекла виноградную лозу с большой кистью белого винограда из поддельного жемчуга, а листья из твердого кружева.
Она не могла дождаться завтрашнего дня, чтобы отдать это матери.
Пит наклонилась и поцеловала бледную щеку матери, проведя рукой по ее все еще прекрасным серебристо-золотым волосам.
— До свидания, мама. Я приду на следующей неделе.
Для Пит субботний ритуал был всегда одинаков. С отцом или дедом — редко сразу с обоими, но никогда без сопровождения одного из них, она совершала долгую и скучную поездку в Йонкерс, делая пересадку из метро на поезд, потом на автобус, прежде чем оказаться перед мрачным серым зданием, разместившимся на отвесном берегу реки Гудзон. Увидя его в первый раз, Пит подумала, что оно похоже на отвратительный сгнивший зуб, торчащий из челюсти гиганта. Даже когда она становилась старше и другие сказочные ассоциации исчезали, эта сохранилась в ее памяти. Государственный институт для душевнобольных в Йонкерсе был местом разложения, местом, которое пережевывало людей в ничто, перемалывало их души и разум гигантскими челюстями, которые, захлопнувшись раз, казалось, никогда уже больше не откроются и не выпустят свою жертву.
Пит никогда не разрешали заходить в комнату матери. Отец или дедушка заставляли ее ждать в комнате для посетителей, пока они приведут маму. Иногда ей приходилось долго сидеть в одиночестве. Случалось, что папа возвращался к Пит один и говорил: «Мама сегодня неважно себя чувствует, мы увидим ее на следующей неделе». И Пит знала, что лучше не спорить.
У Беттины были хорошие и плохие дни, и Пит рано научилась распознавать их с первого взгляда. В хорошие дни они вместе шли гулять на чахлую лужайку, окаймленную сорняками и усыпанную канареечного цвета одуванчиками. Или могли сидеть под дубом и наблюдать за быстрым течением реки Гудзон, иногда текущей к морю, а иногда быстро бегущей вверх с прибывающим приливом.
В хорошие дни Беттина улыбалась и даже немного болтала. Пит рассказывала ей о школе, о том, что она читает, о новом платье или постановке, которую она видела по телевидению. А когда наступало время уходить, Беттина горячо обнимала Пит и целовала на прощание. Тогда она казалась почти нормальной, и Пит всегда спрашивала: «Почему мама не может вернуться домой, папа?»
«Слишком рано, Пит. Она еще не поправилась».
«Она когда-нибудь выздоровеет?»
Стефано смотрел на реку: «Не знаю, бамбина. Может быть».
В не столь хорошие дни Беттина уходила в себя, лицо становилось бессмысленным, и она едва произносила хоть слово, будто челюсти этого заведения закрыли ей разум. Тогда она тихо сидела на диване между мужем и дочерью, казалось, не замечая, что они держат ее за руки, в то время как сама смотрела на что-то, что никто, кроме, нее, не мог видеть.
Сегодня день оказался хорошим. Пит приехала с Джозефом, и Беттине понравился ее подарок. Позднее они все вместе стояли на крутом берегу и наблюдали, как одномачтовый шлюп с небольшой осадкой поворачивал против течения, наполняя ветром раздувающиеся паруса, продвигаясь к Элбани в ста милях вверх по течению. Когда он исчез, Беттина вспомнила морскую прогулку в Швенингене, которую она совершила ребенком, лицо ее озарила тихая улыбка, а глаза засверкали от наивных воспоминаний, когда она нежно спросила:
— Помнишь, пап?
— Да, дорогая, — ответил дедушка таким печальным голосом, что Пит захотелось заплакать. — Я помню.
Пит также старалась запомнить, удержать в памяти некоторые яркие впечатления, которые были связаны с ее матерью. Позволить им изгладиться значило бы потерпеть частичное поражение в борьбе за мамину жизнь. Она могла припомнить, как она держала маму за руку и гуляла в парке у реки и как мама перечисляла голландские названия цветов вдоль дорожки. Маргаритки были margrietjes, запомнила она, а ноготки — goudsbloemen, золотые цветы. И когда бы Пит ни увидела ирис, она все еще слышала смех матери, напоминающий звук стеклянных ветряных колокольчиков, которые подвесил их сосед мистер Моррис над своим запасным выходом. Regenboogen, называла она их. Радуги!
Ей припомнилась прогулка с мамой на Джоунз Бич, и как розовела мамина нежная кожа на летнем солнце. А семейные поездки на Стейтен Айленд Ферри, яхта одного бедняги, когда они часами плавали взад-вперед, потому что мама чувствовала себя такой счастливой на воде и никак не хотела возвращаться домой.
Но хорошее вспоминалось с трудом. Часто ее воспоминания наполнялись мрачными моментами — мама, сидящая в кресле-качалке с потухшим взором, целыми днями не произносящая ни слова, или когда она заставляла прятаться с ней в шкафу, «пока не уйдут плохие дяди», или звук, который, она знала, был криком мамы, но он напоминал скорее крик раненого животного.

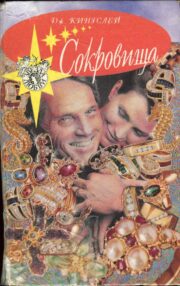
"Сокровища" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сокровища". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сокровища" друзьям в соцсетях.