— Ах, ну да, конечно. Сколько раз я слышала, как твоя достопочтенная матушка расписывала, какие чудесные дни она проводила там со своим обожаемым Мурадом! Так почему бы тебе не увезти туда ее вместо меня? Уж она бы окружила тебя истинно материнской заботой!
— Магнезия — чудесный город. И самое подходящее место для ребенка. Ни грязи, ни вони, ни толпы — не то что здесь, в Константинополе!
— Я там умру от скуки.
— Что ты сказала?
— Что там я умру от скуки. Там всегда такая тишина, что в ушах звенит — того гляди и слышать разучишься.
— Скука?! О чем ты говоришь? Тебе будет скучно там — со мной?
— Ты сам это сказал — не я. Я этого не говорила.
— Проклятие! Может, ты объяснишь наконец, в чем дело? Что, я уже недостаточно хорош для тебя, да? Да ты помнишь, с кем говоришь! Я наследник Оттоманов! И у тебя язык поворачивается сказать, что тебе со мной скучно?!
— А я ничего такого и не говорила! — самым невинным тоном пропела Сафия.
— Во имя Аллаха, признавайся — неужели ты неверна мне?
— А что, это была бы неплохая шутка, верно? Изменить тебе тут, за этими толстыми стенам, где на каждом углу торчит мрачный евнух, а твоя досточтимая матушка шпионит за мной с утра до ночи? Стоит мне только нос высунуть за дверь, а она уже тут как тут!
— Ну, знаешь, еще ребенком я слышал много рассказов о всяких гаремных штучках! Так что можешь не морочить мне голову. Мне известно, что иногда такое случается. И в гарем можно пробраться — например, в корзине с бельем.
— Можешь мне поверить, если бы я вздумала обзавестись любовником, то выбрала бы себе такого, который не унизился бы того, чтобы позволить запихнуть себя в корзину с грязным бельем! Нет, мой господин, у меня нет любовника, хотя… Надо признаться, иной раз мне случалось поглядывать с тоской на блюдо с огурцами! Они такие длинные, такие прохладные… ммм… Возможно, это не такой уж грех, верно? Я имею в виду, когда женщина удовлетворяет себя сама, без муж…
— Шлюха! Грязная, продажная потаскуха!
Я услышал, как кормилица сдавленно ахнула. И тут же замолкла, словно у нее судорогой сдавило горло. Вероятно, подозвав малыша к себе, она попыталась зажать ему уши, чтобы он ничего не слышал.
Сафия звонко рассмеялась:
— Возможно! Ну, и что ты теперь будешь делать? А? Что ты собираешься делать, я спрашиваю? Шлюха я или не шлюха, но я как-никак мать твоего сына, твоего первенца! Мы с тобой связаны навечно, мой дорогой повелитель! Так что ты намерен делать — прикажешь придушить свое драгоценное отродье? Или сделаешь это собственными руками?
— Спаси нас, Аллах! — в ужасе простонала кормилица.
— Ну уж нет! Но ты забыла, что я могу взять другую женщину. Любую чертову женщину из этого чертова гарема, если захочу! Вообще любую — в этой стране, да и во всем мире, коль на то будет моя воля!
— А мне плевать, слышишь?! Хоть всех! Меня это не волнует!
— Тебе все равно?!
— Абсолютно! Все равно я останусь матерью твоего перворожденного сына! И сколько бы у тебя ни было женщин, все равно я останусь первой, кому удалось заставить подняться твой сморщенный стручок! Потому что до меня ты вообще не знал, для чего он тебе!
— Я покажу тебе, сука! Я возьму любую женщину! Прямо здесь, у тебя на глазах! Да вот эту хотя бы! Можешь полюбоваться, как я это сделаю!
— Какую женщину? Эту дуреху-кормилицу?!
— Да, провалиться мне на этом месте! Я сделаю это! Я смогу, и я это сделаю!
— Господин! Господин! — пронзительно заверещала кормилица.
Сначала мне показалось, что она просто перепугана до смерти, но потом я понял: она кричит от боли.
А то, что происходило в мабейне, нас не касалось ни в коей мере.
Поэтому я молча стоял и слушал. Волосы зашевелились у меня на голове, когда моего слуха коснулся жалобный стон несчастной кормилицы.
— Господин, прошу вас! Пожалуйста, не надо! Нет, господин, нет, умоляю…
Ей вторили жалобные всхлипывания малыша. Вероятно, он по привычке уткнулся ей в живот. Попытавшись представить себе эту сцену, я содрогнулся. И слышал, как Сафия тщетно пытается успокоить его. Видимо, ей это не удалось, поскольку почти сразу же раздался ее издевательский смех.
— Ты плачешь, мой маленький львенок! Не плачь! Лучше посмотри на своего отца: полюбуйся, как он зарылся носом в кучу тряпок, словно бродячая собака, что роется в отбросах на улице!
— Сука! — взревел Мурад.
Внезапно дверь в комнату с треском распахнулась, и я едва успел отскочить в сторону. Кормилица, с мертвенно-белым, застывшим, как у покойника, лицом, вылетела из комнаты и бегом ринулась куда-то под лестницу, где она могла забиться в какой-нибудь уголок и почувствовать себя в безопасности. Я сокрушенно покачал головой — выглядела она ужасно. Больше всего женщина смахивала на дохлую крысу, не доеденную кошками и провалявшуюся где-нибудь никак не меньше недели. Жилетка ее была расстегнута, кое-где не хватало пуговиц, а шальвары спустились почти до половины тощих бедер, но она, по-видимому, даже не заметила этого.
— Ты не единственная, — хрипло прорычал Мурад. — Я могу взять себе любую женщину! Слышишь, любую! Где угодно и когда угодно!
— Да, конечно, только тебе придется немало потрудиться, иначе все они сбегут, как сбежала эта, прежде чем ты добьешься своего! — насмешливо бросила она в ответ.
Ребенок пронзительно взвыл.
— Убери этого маленького паршивца с моих глаз, иначе…
Раздался звучный шлепок. Судя по звуку, он пришелся по мягкому детскому тельцу. На миг в комнате воцарилась жуткая, звенящая тишина, после чего послышался леденящий душу вой оскорбленной невинности, от которого у меня мурашки поползли по спине, поскольку ничего ужаснее в своей жизни я не слышал. Однако он возымел свое действие: евнух в другом конце комнаты выпрямился и бросил в мою сторону вопросительный взгляд. Но прежде, чем я успел жестом успокоить его, дверь в покои снова распахнулась, и Сафия осторожно высунула наружу голову. Такой я еще никогда ее не видел — волосы растрепаны, обычно бледное лицо пошло багровыми пятнами — то ли от ярости, то ли от страха, — хотя сама она, вероятно, скорее умерла бы, чем призналась в этом.
— Привет! — овладев собой, бросила она. — О, Веньеро, это ты? Сбегай, приведи кого-нибудь, чтобы забрали отсюда ребенка, хорошо?
Она неловко прижимала к груди малыша — но не из-за того, что не привыкла держать его на руках, сообразил я, и уж конечно, не потому, что насмерть перепуганный ребенок извивался всем телом. Из его разбитого носа капала кровь, и Сафия старалась держать его так, чтобы не испачкать свою одежду.
Я машинально протянул руки, чтобы забрать малыша. Даже я, никогда в жизни не державший на руках ребенка, сделал бы это лучше, чем она, родная мать.
— Нет, нет, только не ты, — резко одернула меня Сафия. — Сбегай приведи какую-нибудь женщину, кто знает, как это делать.
Хотя бедный малыш успел к этому времени накричаться до такой степени, что его вопли перешли в сдавленный хрип, однако резкий голос матери как будто придал ему новые силы, и он снова завопил что было мочи, причем так оглушительно, что без труда заглушил бы и трубы Страшного суда. Это было настоящее светопреставление — удивляюсь, как это у меня не лопнули барабанные перепонки. Выносить это и дальше было свыше моих сил. Я почувствовал, что просто не могу оставить беднягу здесь, вместе с родителями. Честно говоря, я боялся за его жизнь. Не раздумывая, я вырвал ребенка из рук Сафии и бросился бежать, стараясь не слышать страшного рева обезумевшего Мурада и грязных ругательств Сафии, которые она кричала мне вслед на своем родном итальянском.
Кубарем скатившись по лестнице, я влетел в детскую. Молоденькая чернокожая служанка с трясущимися руками суетилась вокруг почти бесчувственного тела кормилицы. Бедная женщина, скорчившись в углу, рвала на себе волосы, похоже, даже не чувствуя боли и глядя остановившимся взглядом прямо перед собой. Она безостановочно причитала:
— О Аллах, о Аллах, если ты милосерден, возьми меня к себе! Забери меня к себе прежде, чем до моего бедного Мансура дойдет, что я была ему неверна! О Аллах! Прошу тебя!
Но, увидев бледного, дрожащего Мухаммеда у меня на руках, несчастная женщина сразу же забыла о своем горе. К этому времени бедный малыш выглядел так, будто жить ему оставалось от силы минуты две, не больше: он был весь перемазан кровью до такой степени, словно ему содрали скальп, а от его стонов даже мертвый мигом сорвался бы со своего смертного ложа. К тому же он успел перепачкать кровью и меня. Руки мои выглядели так, словно минуту назад я вырвался из кровавой сечи.
Маленький Мухаммед моментально вскарабкался к кормилице на руки и почти сразу же успокоился — вернее сказать, его пронзительные вопли перешли в жалобное поскуливание. Время от времени он судорожно вздыхал и всхлипывал, словно от усталости. Несчастная кормилица, мимоходом утирая собственные слезы, сначала принялась вытирать кровь с его лица своим рукавом, а когда тот промок насквозь, — носовым платком, который протянула ей чернокожая служанка.
— Аллах, а кровь все течет и течет! — заливалась слезами кормилица, в ужасе раскачиваясь из стороны в сторону. — О Аллах, да у тебя и тут царапина, на щеке! Ах, бедный ты мой ангелочек! — Спохватившись, она толкнула в спину служанку. — Беги за Айвой! Живо! — велела она.
Я остался с ней до прихода повитухи. Кровь все еще продолжала идти, заливая ребенку лицо, а заметив побелевшее до зелени лицо повитухи и услышав проклятия, которые она цедила сквозь зубы, я понял, что старухе скоро понадобится все ее искусство. Бешенство захлестнуло меня с такой силой, что я даже сам струхнул немного. Я был зол как черт — в первую очередь на себя самого за то, что испугался. Зол до такой степени, что едва ли не бегом ринулся назад в мабейн, решив раз и навсегда высказать ненавистной дочери Баффо, да и самому принцу Мураду, если понадобится, все, что думаю о такой жестокости…

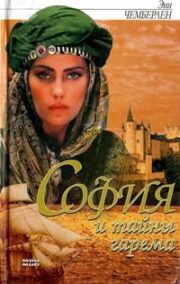
"София и тайны гарема" отзывы
Отзывы читателей о книге "София и тайны гарема". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "София и тайны гарема" друзьям в соцсетях.