— Я не могу позволить вам поступить так с Эсмилькан-султан.
Мои пальцы судорожно стиснули узорчатую рукоятку кривого кинжала — символа моего положения, который, как обычно, висел в ножнах у меня на бедре. Впрочем, я хорошо понимал: случись мне пустить его в ход, кинжал окажется таким же бесполезным, как и большинство символов — в реальном мире от таких вещей проку мало.
— А нам и не нужно твоего позволения, евнух. С твоего разрешения или без него, мы все равно сделаем это. А ты можешь оставаться с ней, если хочешь, или уноси ноги. Спасайся, глупец! Ведь речь идет о твоей свободе!
Джустиниани, набычившись, шагнул ко мне, и я невольно отшатнулся, обнаженной спиной почувствовав занавесь. Она — если не считать меня самого и кинжала, который я по-прежнему сжимал в руке, — оставалась единственной преградой между моей госпожой и крепостью Хиоса.
— Послушай, там, на острове, наши семьи, — с трудом сдерживаясь, терпеливо объяснил Джустиниани. Впрочем, я и без того это знал. Глухой ропот за его спиной подтвердил, что матросы сейчас думают о том же, что и их капитан. — И мы сделаем все, чтобы защитить их!
— Ради Господа Бога… И ради Аллаха, да поймите же вы, наконец, что кроме Эсмилькан-султан у меня на этом свете не осталось ни одной родной души! — проговорил я. И неожиданная твердость, прозвучавшая в моем голосе, удивила даже меня самого.
Услышав в ответ только глумливые смешки, я с отчаянием добавил:
— По крайней мере, она никогда не презирала меня за то, что случилось со мной. Она считала, что это мое несчастье, а не моя вина. И потом… потом она уважает меня, даже такого, как я есть. Вернее, именно такого, как я есть.
Все это, конечно, звучало глупо и немного по-детски, очень похоже на то, как если бы какой-нибудь перепуганный малыш вздумал грозить разъяренному быку своей погремушкой. Голос у меня дрогнул и сорвался, и я только молча стиснул руки, тяжело дыша от унижения.
Джустиниани снова заговорил, но теперь в его голосе звучала презрительная жалость. Для меня это было хуже любого, самого страшного оскорбления.
— Да что с тобой говорить! Видно, любовь к свободе тебе оторвали вместе с яйцами. Потому что любой, кто предпочитает влачить жизнь презренным рабом, просто не достоин называться мужчиной!
Свобода! Я полной грудью вдохнул это сладостное слово и закрыл глаза. В голове у меня шумело. Мне вдруг показалось, что сама жизнь по каплям покидает мое тело и тонкой струйкой пара испаряется к небесам.
В прошлом мне однажды уже случалось испытывать нечто подобное. Помню, как дервиш вертелся волчком, стараясь спасти меня от безумия — дервиш, которым на самом деле был мой друг Хусейн. Друг нашей семьи, его я помнил с тех пор, как помнил себя, а истоки этой дружбы уходили в далекое прошлое. Торговец из Сирии, он решился испробовать на мне свое искусство, когда все другие уже отступились от меня. С тех самых пор я считаю его своим вторым отцом. Он жестоко отомстил негодяю, оскопившему меня, и с тех пор был вынужден стать изгоем в собственной стране. Чтобы не стать жертвой всеобщего презрения, ему пришлось надеть личину дервиша — турки почитают их чуть ли не святым. Тогда, в тот страшный час, когда я был уже близок к смерти, он внезапно появился передо мной в обличье дервиша. И вот теперь, стоя перед толпой пиратов и разбойников, я вновь обратился к нему, моля о чуде.
Впрочем, надеяться на то, что чудо произойдет, было бы глупо. Особенно принимая во внимание тот факт, что в настоящий момент мы были далеко от Турции и вокруг меня толпились исключительно христиане. Сейчас я мог полагаться только на самого себя.
Но разве это не есть свобода?
Мои глаза оставались закрытыми. Вместо того чтобы слепо таращиться в кромешную темноту, пытаясь разглядеть движения своих врагов, я попытался обратиться к другим чувствам. Ступнями я ощущал знакомую гладкую древесину палубы. Еще не успев остыть, она мелодично поскрипывала у меня под ногами, и звук этот сейчас звучал сладчайшей музыкой в моих ушах. Это было похоже на колыбельную песню матери, по которой истомилась моя душа. Мне казалось, волны прилива, тыкаясь в корпус корабля, хотят вселить в меня мужество, которого мне так недоставало. Даже ветер, надувая паруса, будто гнал меня навстречу моей судьбе. И я воспрянул духом, почувствовав в этом дыхание Бога, пришедшего на помощь одному из своих созданий.
Моя жизнь, мир, в котором я жил, сейчас висели на волоске. Но на том же самом волоске сейчас висело и то, что было мне дороже всех сокровищ мира, — жизнь моей госпожи.
В этот самый момент мой нос, которого была бессильна сбить с толку царившая кругом темнота, подал мне знак — поглубже втянув в себя воздух, я почувствовал запах трюмной воды. «Пахнет достаточно крепко, — говаривал мой блаженной памяти дядюшка, — чтобы почувствовал и слепой». Этот отвратительный, гнилостный аромат обычно наполняет ликованием сердце моряка. Это означает, что в корпусе судна нет ни малейшей течи. А стало быть, не будет и необходимости прерывать плавание, чтобы, вытащив судно на берег, переворачивать его кверху килем и заново конопатить корпус. Жителям самых грязных, самых перенаселенных городов хорошо знаком этот запах. Моя госпожа изо всех сил старалась заглушить его ароматическими курениями, используя палочки, пропитанные амброй, а когда они кончились, просто разбрасывала для этой цели апельсиновые корки. Но моряки были рады мириться с этой вонью ради спокойствия и уверенности, что воду из прохудившегося трюма не придется выкачивать ручными помпами.
Запах этот сейчас был для меня равносилен удару под дых. Сейчас он означал для меня только одно — рабство.
Но именно тогда, еще не открывая глаз, я вдруг почувствовал, что могу видеть. И в серьге Джустиниани мне почудился грозный признак приближающейся опасности. Крест, украшавший ее, алым призраком врезался в мой мозг, когда на него упал свет единственного на судне фонаря.
И тогда своим внутренним взором я внезапно различил простенькие украшения других моряков. Я вспомнил их нехитрые безделушки, много раз до этого дня мелькавшие у меня перед глазами, тускло поблескивавшие сквозь покрывавшую грудь густую шерсть, когда матросы свешивались за борт, поднимая якорь или когда кто-то из них в редкие минуты безделья рассеянно потирал их пальцами. Но лучше всего я рассмотрел эти безделицы в тот момент, когда генуэзец Джустиниани приказал читать псалмы.
Кусочки воспоминаний, крутившиеся у меня в мозгу, вдруг встали на место. Раздался громкий щелчок, и перед глазами у меня сложилась ясная картина.
Несмотря на то, что сейчас все они действовали заодно, единство это было явно кажущимся. Потому часть матросов, если и носили на шее кресты, то это были не какие-то, а украшенные симметричными перекладинами кресты, какие носят исключительно греки.
Четыре года назад, заметь я это раньше, такая деталь не вызвала бы в моей душе ничего, кроме разве что брезгливого презрения к «проклятым еретикам». Но эти четыре года не прошли для меня даром, научив меня с куда большей терпимостью относиться к религии и верованиям других людей, хотя я никому не пожелал бы испытать на собственной шкуре тот способ научиться терпимости, каким учили меня. Генуэзцы, насколько я знал, принадлежали к римско-католической Церкви и подчинялись исключительно папе — именно им принадлежала власть на Хиосе. Однако большая часть населения исповедовала унаследованную от греков православную веру. Но сколько их было здесь, на судне? Половина? Наверное, да. Однако, подумал с горечью я, эти люди не выбирали, в какой вере или в какой стране им родиться — во всяком случае, не больше, чем я — свою судьбу.
Мне вспомнилось, как еще давно я как-то случайно услышал, как кто-то спросил: «Интересно, и как нам отличить греков от турков, если дело дойдет до драки?» Помнится, это случилось на корабле моего дяди, когда мы шли через Адриатику. Все уже одурели от безделья, и на судне завязалась потасовка.
Ответил на этот вопрос один из матросов, венецианец по происхождению: «Пали во всех подряд, — как бы в шутку бросил он, но в шутке чувствовалась большая доля правды. — Ведь турки плодятся, как кролики, разве нет? Скоро греков совсем не останется. Разве это не лучшее доказательство того, что Господь Бог разгневался на них и решил покарать греков за ересь? Так что считай, они заслужили это наказание».
Я невольно задумался о том, насколько сильно успех, сопровождающий набеги турков на те земли, где некогда господствовали католики, был результатом возмущения греков, которое те испытывали из-за своего униженного положения. Конечно, раб он всегда раб, что ни говори. Но даже рабу не безразлично, каков его хозяин. А турки, по крайней мере нужно отдать им должное, были, хоть и ненамного, все-таки милосерднее, чем иные христиане. В особенности христиане-католики.
Генуя, продолжал лихорадочно вспоминать я, несмотря на всю болтовню своих сограждан о демократии, со времени реформы Андреа Дориа — а тому было уж тридцать лет, — превратилась в покорную прислужницу могучих западных держав. И в особенности Испании. Слово же «Испания» во всем мире — и в моей душе — звучит примерно так же, как «инквизиция». Интересно, подумал я, генуэзцы, правя островом Хиос, используют те же изуверские методы?
Все эти мысли и догадки молнией вспыхивали и проносились в моем мозгу, кружась в голове, точно испуганные летучие мыши и не подчиняясь никакой логике. Да и о какой логике могла идти речь в подобной ситуации? Могу только сказать, что мне потребовалось куда меньше времени, чтобы додуматься до всего этого, чем было нужно, пожелай я изложить все это словами. Когда ко мне наконец вернулась способность рассуждать, я решил, что попробовать стоит. Возможно, мысль и неплохая. И к тому же иного выхода все равно не было. Открыв глаза, я набрался мужества и произнес:
— Ладно, идет. Считайте, вы меня убедили. Сейчас приведу мою госпожу, а потом отправлюсь с вами.

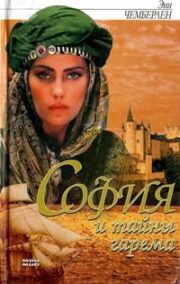
"София и тайны гарема" отзывы
Отзывы читателей о книге "София и тайны гарема". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "София и тайны гарема" друзьям в соцсетях.