Затем я услышал шаги и голоса. Узнал отца Мартина. Похоже, с ним гости. Старик благодушно щебетал. Хлопочет о пожертвованиях. Весь в трудах. Я выжидающе смотрел на дверь. Кто это с ним?
С ним была дама. Знатная дама. Одета роскошно. Держится прямо и в то же время с какой-то благородной небрежностью. Как держатся все они, те, кто наделен властью. Лицо красивое, узкое, бледное. Веки полуопущены. Губы чуть кривятся. Она благосклонно внимает этой старческой трескотне, но, похоже, едва ли улавливает смысл. Ей скучно.
На ней черное платье из тонкого переливчатого бархата. Мадлен как-то прижалась щекой к штуке такого бархата в лавке, когда мы бродили по торговой площади, и потом долго рассказывала, какая это теплая и нежная ткань, как она окутывает, будто облако, нежит и балует. Бедная девочка, она могла об этом только мечтать. Штопала старый шерстяной чулок и придумывала платье, какое сшила бы себе из этой волшебной ткани. А гостья была обмотана в этот бархат с головы до ног, с большими излишками, которые ложились складками у талии и на рукавах. К тому же с плеч у нее спадал такой же безразмерный плащ с оторочкой из горностая. (Из такого плаща Мадлен соорудила бы себе три платья. Да еще пару юбочек для Марии.) По краю плаща вилась серебряная лоза, разбрасывая замысловатые округлые ветви. Точно такая же серебряная вязь сбегала по ее корсажу к талии и там, раздваиваясь, уходила вниз по широкой юбке. В этих серебряных узорах мерцали крошечные, искусно вшитые жемчуга. Точно такие же жемчуга украшали ее волосы. На плечах – облако драгоценных кружев. Только на руках ни одного перстня. Герцогиня Ангулемская. Сестра короля.
Все эти подробности – серебряное шитье, кружево, жемчуг, скучающий вид – всплыли в памяти внезапно. Тогда, в минуту ее визита, я ничего не заметил. Я слишком устал и уже пару часов боролся со сном. Все вокруг подернулось дымкой, расплылось, а люди двигались как безликие, бесформенные силуэты. Действия я совершал машинально. Она вошла, я встал и поклонился. А вот какое все это имело значение и какой несло в себе тайный смысл, мне открылось гораздо позже. Мы всегда видим только то, что хотим видеть, или только то, что позволяют нам видеть наши страхи. Мы слепы по собственному желанию. А затем я хлебнул мозельской отравы и прозрел.
Ее скучающее лицо. Очень правильное, гладкое, неподвижное лицо власти. Она сама власть, она рождена ею, она носит эту власть на плечах, как свой безразмерный плащ. Сияние холодного, презрительного могущества исходит от нее, разливаясь вокруг, как разливается сияние праведников. Она глядит на меня с величавым равнодушием. Еще один предмет мебели, вроде тех пыльных шкафов, что выстроились вдоль стен и набиты книгами. Из-под полуопущенных век, совершенно неподвижных, будто приклеенных к глазному яблоку, скользит ее взгляд. И вдруг этот взгляд возвращается. И веки дрожат. Она смотрит на меня. Пока поднимаюсь из-за стола, пока делаю шаг, пока изгибаю спину в поклоне. Она смотрит. А затем протягивает руку. Принцесса крови протягивает мне руку! И снимает перчатку. Не будь я полумертв от усталости и слеп от рези в глазах, я бы удивился. Смутился бы, опешил, не сообразил бы, что мне с этой рукой делать. Таращился бы на нее как неотесанный деревенщина. Но, к счастью или к несчастью, я был слегка не в себе и потому действовал без раздумий. Она протянула руку, я взял и поцеловал. Рука такой же фарфоровой белизны, как и ее лицо, с голубоватыми жилками, сухая и прохладная. Ногти розовые. Она позволила мне эту руку лицезреть и даже познать на ощупь. И я не нашел в этом ничего удивительного! Не задал себе ни единого вопроса. Следует обладать завидной долей самоуверенности, чтобы усмотреть причину этой милости в самом себе. А я этой самоуверенностью не обладал и потому счел происшедшее за случайность.
Глава 5
Итак, она определила болезнь. Желание. Впервые за много лет она желала мужчину. Желала его не как опосредованный символ игры, как трофей или орудие, а желала в самом изначальном, презираемом смысле. Она желала его как любовника. Ее влекло к нему, и влечение было пугающим по силе и насыщенности. Оно не поддавалось привычным тискам рассудка, не тускнело от приводимых доводов и не растворялось в рутине дней. Напротив, подвергаясь угнетению, оно крепло, будто питаясь своими стражами.
Возможно, ей мстила отвергаемая женская природа, которую много лет назад она объявила своим врагом. Эта природа, как покоренный завоевателями народ, терзаемый игом, в конце концов желает признания и свободы. Это зерно греха в плоти человека, его изъян и его слабость. Такая же неистребимая зависимость, как голод или жажда. Как бы смертный ни пытался возвыситься, вознестись к вершине могущества, плоть не позволит ему чрезмерно увлечься. «Respice post te! Hominem te memento!»6 – шепчет раб за спиной триумфатора. Если великого властелина лишить пищи, то он умрет, невзирая на все свое величие. Как умер царь Мидас, пожелавший обрести дар обращать в золото все, к чему прикоснется. Алчность лишила его рассудка (ох уж эти страсти!), и он забыл, что та же участь превращения постигнет и кусок хлеба, как только он возьмет его в руку. Великий царь умер от голода. Зависимость от телесной прозы сводит на нет все разглагольствования и мечты о свободе.
Свобода – это призрак. Она, герцогиня, тоже мнила себя свободной, называя себя охотником, идущим по следу, но оказалась в ловушке. Что же ей теперь делать? Лекарства нет. Спасения нет. Но почему нет спасения? Ей вовсе не обязательно умирать от голода. Она может его утолить. Она столько лет запрещала себе эту слабость – увлечься, потерять голову, что давно искупила грех. Она отрицала саму жизнь, почитая ее за врага. Почему бы не обратить своего врага в союзника? Почему бы не позволить себе приключение? Безумство? Слабость? Почему бы не развлечься, в конце концов? Что она теряет? Она может затеять охоту, тайную, неспешную. Она может расставить силки и раскидать приманку, а затем предвкушать. Процесс выслеживания и охоты на зверя не менее сладостен и увлекателен, чем сам триумф. Она будет наслаждаться. Она загонит зверя до изнеможения, до дрожи в ногах, она вынудит его упасть на колени и признать свое поражение. Возможно, она даже ранит его. Или убьет. Но это будет потом. Сначала будет победа. Чистая победа.
Я знаю, меня находят привлекательным. Мадлен не раз говорила об этом. Глаза ее при этом ревниво темнели. Отец Мартин предостерегал. В университете требовали список моих побед. А я не находил это достаточно убедительным, чтобы возгордиться. Да, черты лица правильные, неплохо сложен, волосы густые, кожа чистая. Что с того? Плоть есть томление и прах, век ее недолог. Стоит ли превозносить ее зыбкие совершенства? Юность кончится, волосы поседеют, лицо обезобразят морщины, и то, что прежде ласкало взгляд, станет поводом для насмешек. К тому же кроме внешности человеку даны еще разум и дух. А что такого великого я познал, или каких таких недосягаемых высот достиг мой дух, чтобы дать мне повод возгордиться? Самоуверенность не произрастает на бесплодной почве. Родителей своих я не знаю, первые воспоминания отсылают меня к бедному монастырскому приюту. Затем недолгие мытарства в приемной семье, куда меня взяли лущить горох и таскать воду. Очень скоро побег и скитания в стайке таких же безродных оборвышей. Голодные дни и ночи. Наступившая зима. И встреча с отцом Мартином по невероятной божественной случайности. Вот моя короткая жизнь. Если у кого и есть повод собой гордиться, так это у отца Мартина: из грязного, дикого, исхудавшего найденыша он воспитал для своего короля вполне пристойного подданного. Я ему всем обязан. Он славно потрудился, мой бедный отец. Тем не менее, даже овладев латинским и греческим, я остаюсь все тем же найденышем. Я слишком ничтожен. Мной не могла увлечься принцесса крови. Пусть она и бывает в доме отца Мартина, пусть бросает в мою сторону взгляды, но у нее другие мотивы. В этом я уверен. Она добрая христианка, дала обет, совершив паломничество в Мармутье7. Или такова ее искупительная жертва! Ничего другого и быть не может.
Оказывается, может. Неожиданно сердце сдавила такая тоска, что из глаз едва не брызнули слезы. Мадлен, бедняжка, уже несколько часов одна, а я обещал скоро вернуться. Я бросился к дому епископа через площадь Сорбонны, перепрыгивая через канавы и выставленные поперек улиц прилавки, пугая и расталкивая мелких торговцев.
Мадлен сидела с пяльцами у окна. Она брала надомную работу у знакомой золотошвейки – вышивала на платках монограммы. Получалось у нее очень неплохо, но я запрещал ей заниматься этим подолгу. Она согласно кивала, но я знал, что стоит мне оказаться за дверью, как она тут же возьмется за пяльцы. Чтобы заработать несколько су. Избавить меня хотя бы от одной бессонной ночи. Я взглянул на нее с порога, и к сердцу вновь подступила тоска и какая-то мучительная нежность.
Она же еще совсем девочка. Худенькое личико, большие глаза. Я увел ее из родительского дома, когда ей едва исполнилось семнадцать, и обрек на полуголодное существование. Она выносила нашего первого ребенка и сейчас носила второго. Роды были тяжелыми, и врач, мэтр Бонне, сказал, что повторной беременности следует избегать по меньшей мере лет пять, чтобы сохранить жизнь матери. Я готов был соблюдать предписание врача и даже отказывался от супружеских притязаний, но Мадлен по прошествии двух месяцев сказала, что слишком любит меня и не желает обрекать на такие страдания. Я и тогда не сразу сдался, хотя мне это было нелегко, но Мадлен однажды прошептала, краснея и пряча лицо, что ей самой как-то не по себе без этих самых притязаний. Тут уж мне нечего было возразить. Я жалел ее и готов был на любые жертвы, но она, глупышка, не желала быть фиктивной женой. Позже мне пришло в голову, что тут не обошлось без сплетен, которых она наслушалась, отправляясь по утрам на рынок или помогая на монастырской кухне. Там шли обычные разговоры о том, что муж, отлученный от супружеского ложа по причине болезни или беременности жены, непременно найдет утешение у какой-нибудь бойкой красотки. А уж если муж такой красавчик, как у нее, то тем более без интрижки не обойдется. Смотри в оба. Вот она и смотрела, милая девочка, в полной уверенности, что все мужчины, не исключая и ее мужа, готовы на случный грех по десять раз на дню. Иногда она меня проверяла (опять же следуя советам наставниц): ласками и поцелуями увлекала в постель, едва лишь я переступал порог. Я должен был доказать на деле, что нигде не растрачивал себя и с легкостью готов исполнить свой супружеский долг. Я немедленно разгадал ее наивный замысел и тихонько посмеивался. Бедная моя девочка, мне бы ничего не стоило обмануть тебя, и ты бы никогда не узнала о моей измене. Но зачем? Я любил ее, а она, несмотря на детские уловки, всецело мне доверяла. Я не мог ее предать.

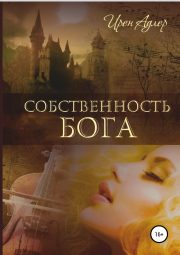
"Собственность бога" отзывы
Отзывы читателей о книге "Собственность бога". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Собственность бога" друзьям в соцсетях.