Сейбер покопался в памяти, пытаясь припомнить, что он мог натворить такого, что заставило бы отца вызвать его к себе. После своего прибытия он видел Гримсборо только издали, и этого было для него достаточно. Он узнал, что отец приводит в ужас каждого из живущих в доме: свою супругу, на которой женат вот уже пятнадцать лет, своих дочерей, своего управляющего поместьем, своих слуг, начиная с Томпсона и кончая последней девчонкой-судомойкой. Гримсборо не был каким-то необычайно жестоким хозяином, не был он также и распутником или извращенцем. Казалось, он не интересуется ничем, кроме собственных увлечений — коллекционирования книг, посещения драматического театра и скачек. Однако была в нем какая-то загадочная мрачность. В его присутствии солнечный свет тускнел, а воздух становился холоднее. Когда он обращал внимание на человека, виновного в каком-нибудь проступке, этот человек — будь он благородный или простолюдин — старался избежать прикосновения даже к его тени.
Сейбер его не боялся. По крайней мере, он убеждал себя в этом. И в некотором смысле это было правдой. Он был слишком занят, чтобы бояться своего отца. Он обнаружил, что и впрямь является невежественным дикарем, как называл его Гримсборо. Он говорил на морикадийском, английском, испанском и французском языках, но на всех языках был безграмотен. Он умел заключать сделки, умел производить в уме арифметические расчеты, но не умел читать числа. Он умел рассказать какую-нибудь историю так, что сестры ловили каждое его слово, но не умел записать ее. Он чувствовал, где находятся север, юг, восток и запад, но не умел пользоваться картой.
Он умел ездить верхом… Он умел это делать лучше, чем кто-либо другой, и быстро обнаружил, что отцовские чистокровные скакуны способны мчаться, словно ветер.
В течение трех месяцев он впитывал, поглощал, усваивал все, чему его учили, движимый уверенностью в том, что чем скорее он узнает, как стать хорошим военным командиром, который сумеет разгромить врагов Морикадии и вернуть захваченный трон, тем скорее он сможет возвратиться домой.
А еще его подхлестывал дух соперничества. Ведь даже самая младшая из сестер гораздо лучше знала историю и литературу, чем он.
Такого он не мог стерпеть.
Его обучали также всяким правилам поведения в обществе: он научился кланяться, вести себя за столом, усвоил, какой вилкой или ложкой следует пользоваться; его научили преподносить цветы, улыбаться, он усвоил правильные фразы для всех случаев жизни и то, каким тоном их следует произносить.
Все это он презирал, но Элла, старшая из сестер, заметила, что принцу необходимо знать дипломатию и что после того как он одержит победу на поле боя, ему придется кланяться, танцевать, есть и говорить комплименты. И она была права, хотя ему это очень не нравилось.
Девочки примиряли его с этой жизнью. Не более того. Просто делали его жизнь сносной.
И каждую ночь он тосковал по своей родной стране, по диким Пиренейским горам. Ему вспоминалось суровое лицо его дедушки, который велел ему ехать в Англию. Он вспоминал успокаивающий запах матери, когда она обняла его в последний раз, а потом посадила на коня и помахала на прощание рукой.
Каждое мгновение, когда он не был занят, он тосковал по ветхому дому в лесистой местности, по запаху сосновой хвои, по неистовым зимним буранам и великолепным летним дням, по видам, открывающимся на горы и ледники.
Никто об этом не знал, но по ночам он плакал. Он, Сейбер, из королевского древнего рода де Барбари Джинет.
И теперь он шел, потому что его позвал человек, который создал весь этот ад, — его отец.
Томпсон постучал в высокую темную дверь кабинета, открыл ее и отступил на шаг, пропуская Сейбера вперед. Тот шагнул в комнату, и дверь за его спиной закрылась. Он остался один со своим отцом.
Как и прежде, Гримсборо сидел за письменным столом и что-то писал, но сегодня шторы были раздвинуты, и неяркое английское солнце освещало его силуэт. Он поднял глаза и жестом подозвал Сейбера ближе.
— Сегодня я получил письмо.
Он взял помятый, с ободранными краями, листок бумаги из пачки таких же помятых бумаг и прочел следующее:
«Милорд, не будете ли вы добры передать эту новость моему любимому сыну Сейберу».
Гримсборо взглянул на сына холодными зелеными глазами.
— Твоя мать, как видно, не поняла, что тебя теперь зовут Рауль Лоренс.
Сейбера охватила тревога, и он не стал возражать против своего английского имени. Сейчас его больше всего интересовало содержание письма.
— Прошу вас, милорд, прочитайте, что пишет мама.
«Его дедушка был убит де Гиньярами, когда ходил в лес, чтобы раздобыть еду…»
Сердце Сейбера сжалось от боли.
«Скажите ему, что эти грязные воры преследовали его как животное и закололи копьями…»
Сейбер не мог дышать, не мог думать. Его глаза застилал красный туман. Он чувствовал, что может потерять сознание.
«…потом они повесили его на дереве и выпустили внутренности. Я дождалась темноты и сняла его с дерева».
Сейбер чуть не закричал. Неужели она не знает, как опасно это делать?
Конечно, она это знала. Она знала, что сделали бы с ней де Гиньяры, если бы поймали.
«Я похоронила его на кладбище рядом с замком, где покоится последний подлинный король…»
Пронзительный вопль вырвался, наконец, из горла Сейбера. Он опустился на колени и орал, выплескивая свой гнев на убийц де Гиньяров, свое горе по поводу дедушкиной смерти и свой ужас от подробностей его гибели. Он делал все то, что в Морикадии приличествует делать человеку, узнавшему о смерти любимого главы семьи.
Он смутно слышал, как открылась дверь и как Томпсон с беспокойством что-то спросил.
Отец что-то ответил.
Потом… к его удивлению, он получил удар в грудную клетку. Было очень больно. Он свалился на бок, словно тряпичная кукла, и был не в состоянии даже дышать от боли.
Последовал еще один удар.
Сейбер инстинктивно откатился, защищаясь руками.
Он чувствовал сапог и слышал ненавистный голос отца, который говорил:
— Никогда. Никогда. Англичанин никогда…
Из-за шума в голове Сейбер не мог разобрать слов.
Еще один пинок, на сей раз в плечо, потом послышался умоляющий голос Томпсона…
Гримсборо вдруг схватил его за шиворот разодранной рубашки, приподнял над полом и заглянул в глаза. Своим обычным холодным, четким голосом, как будто и не он только что чуть не убил своего сына, Гримсборо сказал:
— Чтобы я никогда больше не слышал этого звука из твоей глотки. Англичане не воют, словно варвары. Они не плачут, словно женщины. Они не показывают эмоций. Они их вообще будто не имеют. — Он встряхнул Сейбера. — Ты понял?
Сейбер сердито посмотрел на него. Он хотел бы понять, но не понимал, что это за зверь, который считает преступлением скорбь по любимому дедушке.
— Понял? — переспросил Гримсборо.
Сейбер знал, что следует сопротивляться, следует настаивать на своем праве горевать, но он закашлялся и почувствовал во рту вкус крови. Каждый вздох вызывал дикую боль, от которой мутилось сознание. Он не видел ничего, кроме требовательного взгляда отца, и его глаза были такими же холодными и бездушными, как у змеи.
Сейбер кивнул.
Гримсборо отпустил его.
Боль распространилась по всему телу, но Сейбер запомнил слова отца и не издал ни звука.
— Забери его отсюда, — приказал Гримсборо и, повернувшись к нему спиной, вышел из комнаты.
Бормоча какие-то подбадривающие слова, Томпсон увел Сейбера из комнаты.
В тот день он получил урок — тяжелый, жестокий, болезненный урок. Урок, который запомнил на всю жизнь.
Скрывай свои чувства. Никогда не поддавайся эмоциям. Потому что Гримсборо хотел сына только при условии, что этот сын будет похож на него.
Поэтому, когда пять месяцев спустя Гримсборо позвал его к себе и прочел ему другое письмо, Сейбер не проронил ни звука.
Да и смысла в этом не было. Он потерял самое важное, что имел в жизни: умерла его мать.
Глава 3
Десять лет спустя
На вершине холма сидел в седле, держась прямо, двадцатиоднолетний Рауль Лоренс и с едва заметной улыбкой наблюдал за очаровательной сценой, разыгравшейся внизу. Девушки из школы, где училась Белл, шествовали, словно семена цветных одуванчиков, которые несет ветер, по газону перед домом его отца в Гримсборо-Абби, вращая зонтами нежно-розового, желтого и голубого цветов. Рауль издали узнал Белл, которая сопровождала самую многочисленную группу девушек в ознакомительном турне по саду, показывая цветники, вьющиеся розы, мощеные дорожки и качели на дереве, которые он соорудил для сестер вскоре после своего приезда из Морикадии.
Все это было десять лет назад, но хотя он по-прежнему безумно тосковал по дому, он знал, что это чувство следует переносить стоически, одному и молча.
Он никогда не думал, что такое возможно, но в Англии он кое-кого полюбил: своих сестер, друзей, лошадей, Томпсона, даже мачеху… бедняжку. Они сделали его ссылку вполне сносной, и он всем сердцем радовался, что они у него есть.
Юная леди, гулявшая под руку с Белл, озадаченно взглянула на подругу. И Рауль понял, что ее смутило. Белл с ее ямочками на щеках, появлявшимися, когда она улыбалась, с ее добрым сердцем и неожиданно умными суждениями озадачивала, как правило, их всех.
Его, как видно, заметили, потому что к нему на холм торопливо поднимался слуга.
Рауль спешился. Вынув из седельной сумки подарок для Белл, он передал слуге поводья и стал спускаться к цветникам.
Когда он подошел ближе, юная леди, что шла с Белл, увидела его.
Он даже остановился.

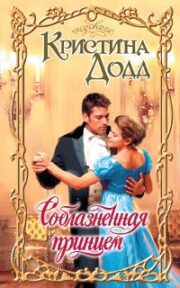
"Соблазненная принцем" отзывы
Отзывы читателей о книге "Соблазненная принцем". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Соблазненная принцем" друзьям в соцсетях.