„Афганец“ с третьего этажа оказался более искренним. Он выпалил: „Ну что, орала: „Пожар! Горим!“? Вот и накликала“.
Снаружи дверь почти не пострадала, только оплавилась по краям полимерная обивка. Зато внутри… В квартире не было ни одной неповрежденной вещи. Комната казалась черной, как дупло.
— Вы бы порылись, может быть, что-нибудь не пострадало, — давал ей ЦУ чернявый пожарный.
Но Настин взгляд был прикован к письменному столу, на растрескавшейся столешнице которого возвышалась горстка пепла. Все, что осталось от ее рукописи.
Ведьма Маргарита летит на метле над городом, который освещен сиянием горящих рукописей. Ветер перелистывает охваченные огнем страницы, и черные чешуйки пепла опадают на вороненую брусчатку.
Но на чем же она летит, эта самая Маргарита, если в доме умудрилась сгореть даже швабра? Ведьма летит на огромном черном коте, материализовавшемся из клубов дыма, которые вырвались из окон „хрущевки“ на пятом этаже.
Она хохочет, произносит своеобразные комплименты: „Хороша квартира у тебя“. И вихри, ветры, сквозняки, вдоволь наигравшись-натешившись ее шикарными рыжими волосами, срываются с небес, крутятся у ног, стремясь наслать порчу.
Рукописи горят…
Падая, Настя ушиблась головой об угол комода. И, слава Богу, что „испытанные“ огнем древесно-стружечные плиты развалились. Она лежала в месиве из углей и белой пены и вдыхала отвратительный запах нашатырного спирта.
— Ну вот, слава Богу. — Чернявый парень улыбался, обнаруживая сходство с кем-то, похожим на Воланда.
На пепелище появились новые действующие лица: участковый — Настя знала его в лицо — и еще кто-то в штатском. Очевидно, они сразу оценили ее состояние и решили не обращаться с вопросами. Для начала они просто ходили по „пещере“, словно искали искру, от которой возгорелось пламя. Так продолжалось минут пятнадцать. Настя наблюдала эти хождения от стены к стене среди обугленных обломков, и они казались ей лишенными всяческого смысла.
А чернявому пожарному, видимо, надоело держать фонарик, освещая детективам „делянку“.
Электричество не действовало не только потому, что лампочки разлетелись на мелкие кусочки, но и оттого, что где-то, возможно, возникло короткое замыкание.
— Ребята, вы долго еще собираетесь тыкаться в темноте? — спросил чернявый с плохо скрываемым раздражением в голосе.
— Уходим уже, приятель. Завтра придем: проверить кое-что надо, — успокоил его участковый, а потом обратился к Насте: — И с вами, хозяйка, завтра побеседуем. Где мне вас найти?
Все еще находясь в состоянии легкой невменяемости, она назвала адрес:
— Добролюбова, десять дробь одиннадцать. Общежитие Литинститута…
А пока участковый записывал цифры и дроби в блокнот, успела подумать: „Почему я назвала именно этот адрес?“
— И что же, есть подозрения? — спросил пожарный у участкового.
— Есть. И у меня, и у следователя, — ответил тот. — Понимаешь, загорелась хата не от телевизора, не от утюга и не от газа… Нужно разобраться.
Следователь, казалось, соблюдал обет молчания и в разговор не вступал.
Но Настя поняла, что в полном соответствии с ныне здравствующей русской литературой этот сюжет дрейфует от распутинского „Пожара“ к астафьевскому „Печальному детективу“.
Она вышла из пожарной машины в перепачканной шубе, с нелепым пакетом с еще более нелепыми итальянскими туфлями и вошла в общежитие.
Вахтерша удивилась Настиному виду» но в этих стенах было не принято слишком сильно удивляться чему бы то ни было. Она проверила липовый пропуск, который, к счастью, оказался в сумке фирмы „Дэниел Рей“ и осталась удовлетворена.
Потом Настя вошла в лифт и механически нажала кнопку с цифрой „7“.
Сомнамбулической походкой она вышла на площадку седьмого этажа и увидела, что в двух шагах от нее пытается куда-то дозвониться по телефону-автомату поэт Ростислав Коробов. Собственной персоной.
— Настя?! — Трубка выпала у него из рук и повисла, распространяя короткие противные гудки.
— Да, это я. — С такой интонацией отвечают, наверное, только призраки.
Он опешил, поскольку не привык общаться с пришельцами из иных миров. Потом задал нелепый вопрос, в данном случае попав в самую точку:
— Откуда ты?
— У меня сгорел дом, Слава… Мне некуда больше…
Не договорив, Настя захлебнулась слезами и стала медленно оседать на пол.
Она не почувствовала, как Ростислав подхватил ее на руки и, словно Королевич Елисей Мертвую Царевну, понес в свою комнату.
Когда Настя очнулась, то увидела, что лежит на диване, укрытая теплым клетчатым пледом. Под головой она почувствовала не слишком мягкую — общежитскую, но все же подушку. Почему-то вспомнилось, как однажды в хозмаге наблюдала целую груду таких подушек, к уголку каждой из которых была пристрочена этикетка, где значилось: „Подушка перовая“. Еще тогда она подумала, что в этом эпитете следует заменить первую букву на „х“. Теперь Настя убедилась, что была права.
Комната была оклеена голубыми обоями в мелкий растительный рисунок — он делал ее светлее. Обстановка состояла из дивана, на котором она лежала, кровати, кресла странной круглой формы, больше подходящего для какого-нибудь киношного интерьера, чем для комнаты в общежитии. Были здесь еще и два стола — письменный и обеденный, а также несколько стульев и три безногих тумбочки, по правилам общежитского дизайна поставленные друг на друга так, что образовывалась новая функциональная единица — столбик. Как говорится, количество перешло в качество. Голубые занавески шевелились вблизи открытой форточки. И казалось, что за окном кто-то дышит.
Ростислав вошел, тихо прикрыв за собой дверь. Сначала он остановился в маленькой прихожей, отделенной от основного пространства комнаты темно-ультрамариновой шторой. Как оказалось, там находилось два встроенных шкафа: один для одежды, а другой для всяческих кухонных потребностей. А Ростислав искал сахарницу.
— Я заварил чай. Будешь? — спросил он буднично.
— Буду, — так же буднично ответила Настя.
Он протянул ей сначала чашечку чая, а потом зеркало на длинной ручке. Она увидела, что лежит в шикарной крепдешиновой блузке, в дивном шелковом платке, измятом, как цыганская юбка, на подушке, перепачканной темными пятнами. И лицо ее тоже было покрыто серо-черными разводами, намалеванными пеплом, слезами и остатками косметики. Светящиеся рыжеватые волосы придавали ему и вовсе потустороннее выражение.
— Я сейчас, сейчас, — забормотала она и потянулась к сумке в надежде отыскать там хотя бы носовой платок. Рука наткнулась сначала на зачехленный диктофон, а потом на какую-то книгу. Это оказался „Молот ведьм“.
Белый снег медленно кружил за окнами, наполняя голубую комнату таинственным мерцанием. В относительной „общежитской“ тишине, время от времени щедро сдабриваемой самыми невероятными звуками, шепот, на который они перешли, казался почти сакральным. Гремели проносимые по коридору кастрюли и чайники, звучали разноязычные голоса, кричали кошки и дети. А Ростислав и Настя шептали друг другу какие-то бессмысленные слова.
— Не было счастья, да несчастье помогло, — говорила она, боясь впасть в кощунство.
— Это Бог привел тебя ко мне, — вторил он.
Несколько раз в дверь стучали, что ровным счетом ничего не значило. Но Ростислав все же взял лист бумаги и вывел четким почерком: „Не беспокоить“. Плакат, похожий на белый стяг, сделал мрачный коридор чуть светлее.
А снег все падал, падал… И Ростислав зажег свечу, чтобы было совсем как у Пастернака:
…Метель лепила на стекле
Кружки и стрелы.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.
На озаренный потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья…
Его золотой нательный крестик, управляемый золотой цепочкой, словно марионетка исполнял странный танец на ее груди. И ей больше не хотелось быть ведьмой. Она жаждала вечно пылать на этом костре.
Белые хлопья за окнами вдруг, на пороге забытья, показались черными, как чешуйки пепла сгоревших рукописей.
А потом Насте приснился сон, один из многих, из целой рати снов, которых она пугалась.
На огромной рыночной площади не было ни зеленщиц, ни корзин с фруктами, ни ремесленников с их нехитрыми товарами.
Площадь казалась пустой, как еще не накрытый поминальный стол.
Но вот появились вооруженные всадники. Они вели группу закованных в кандалы людей, измученных и избитых. Их оставили на площади под охраной нескольких конвоиров. Остальные стражники снова куда-то умчались.
Настя смотрела на площадь с высоты Брейгелевской перспективы — с птичьего полета, но точка ее обзора неожиданно опустилась ниже, и она различила, что люди, закованные в кандалы, — женщины. В грубых рубищах, с короткими, очевидно опаленными огнем волосами, они стояли и ждали.
Чего?
Своей участи?
Стражники возвращались, и за конным патрулем двигалось несколько тяжело груженных подвод. Их тащили волы, а волами управляли тоже женщины в кандалах.
Настя не слышала голосов, но понимала, что на площади будет возводиться какое-то сооружение: подводы были нагружены досками и хворостом.
Закованные женщины медленно, словно в полусне, принялись за работу. Они раскладывали доски, доставали гвозди, брали в руки молотки.
И все — в мертвящей тишине. Не слышно было даже ударов. Гвозди бесшумно и словно без усилий входили в дерево, чужеродно поблескивая на желтой смолистой поверхности, оставляющей занозы на нежных, закованных в железо руках. Женщины строили.

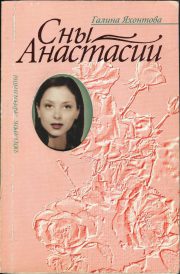
"Сны Анастасии" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сны Анастасии". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сны Анастасии" друзьям в соцсетях.