Она схватила трубку.
– Алло!
– Это ты, Мэри Кэтрин?
Полным именем ее не звал никто, кроме матери. Мэри рывком села, прикрыв покрывалом обнаженную грудь. Дорис была бы шокирована, узнав, что ее дочь спит голышом, подумала Мэри. Впрочем, откуда мать могла бы узнать об этом? Тем более что она спит одна. Мэри не помнила, когда Саймон в последний раз оставался у нее ночевать – он вечно был где-то в Бостоне, или в Чикаго, или в Сан-Франциско.
– А кто же? – Мэри не сумела сдержать раздражение. Мама в своем репертуаре: она не звонила неделями, не удосужилась даже поблагодарить за розы ко дню рождения. А теперь этот звонок, как гром среди ясного неба. «Несомненно, она рассчитывала поймать меня на месте очередного преступления, которое приведет мою бессмертную душу прямиком в ад». Как будто она и без того мало пережила!
– Незачем грубить мне. Это не звонок вежливости, – упрекнула Дорис, голос которой на сей раз был лишен привычной язвительности. Он звучал по-старчески устало.
Мэри сразу охватило раскаяние. Ее мать временами становилась невыносимой, но в последнее время она столько вынесла – две операции за шесть месяцев, не говоря уже о курсе облучения и химиотерапии. Должно быть, что-то случилось. Иначе зачем она позвонила в такой час? Сонливость Мэри как рукой сняло.
– Прости, мама. Просто я крепко спала, вот и все. Так в чем дело?
Сердце Мэри учащенно забилось, до ее ушей долетел слабый вздох. Затем дрожащий голос матери произнес:
– Со мной все в порядке. Я звоню насчет твоей дочери, Ноэль. – Как будто Мэри нуждалась в напоминаниях о том, как зовут ее дочь.
– А что с ней? – Мэри напряглась, вцепившись в покрывало. Наверное, виной всему было католическое воспитание, но она жила в постоянном страхе, что дочь отнимут у нее – в наказание за то, что она оказалась никудышной матерью.
Последовала краткая пауза. Наконец Дорис глухо сообщила:
– Лучше приезжай и посмотри сама. Она лежит на диване как труп.
Мэри задохнулась, ахнула, словно из-под нее вдруг выхватили матрас.
– Ты хочешь сказать, она пьяна?
– И это еще не все. – Дорис помедлила и добавила: – Эммы здесь нет. Роберт увез ее вчера вечером, как только высадил Ноэль. Точнее, выволок ее из машины. – Она фыркнула.
Мэри поежилась, ей вдруг показалось, что она забыла выключить кондиционер. Но в комнате было тепло, даже душно, завтра температура опять должна была подняться выше тридцати градусов.
– Я уже еду… только оденусь, – отозвалась она, спуская ноги на пол и "вслепую нашаривая шлепанцы. Еще даже не рассвело, а день уже предвещал неприятности и призывал быть начеку.
– Веди машину осторожно, – напомнила Дорис. – Не хватало нам еще, чтобы ты попала в аварию.
«Да, это нам ни к чему, – в приступе давнего раскаяния подтвердила Мэри. – Я и без того причинила тебе немало горя». С тех пор прошло тридцать лет, но до сих пор, разговаривая с матерью, Мэри чувствовала себя в неоплатном долгу перед ней.
Она устало пообещала:
– Не беспокойся, я не превышу скорость ни на милю.
Впрочем, какая разница? До Бернс-Лейк три часа езды, и даже если она будет мчаться как ветер, к ее приезду Ноэль наверняка проспится.
Вопрос в другом: как быть дальше? Похмелье станет самой незначительной из бед ее дочери. Мэри знала о решении Ноэль расстаться с Робертом, и это только осложняло положение. А если он твердо вознамерился отнять у Ноэль Эмму? Твердый комочек ужаса возник в глубине ее живота.
Мэри добрела до ванной и забралась под душ. Стоя под горячими струями, она ощущала ледяной холод, который ничем не прогнать. Ее не покидало ощущение, что любое испытание, которое ей предстоит, окажется непосильным.
Проехав мост на Первой авеню, Мэри свернула на шоссе И-87 и ехала по нему два с половиной часа, пока не добралась до поворота на 23-е шоссе. Через двадцать минут она свернула с него. Четырехрядное шоссе сменилось двухрядным, телефонные будки и автостоянки уступили место пологим холмам и солнечным пастбищам, где паслись коровы и лошади. Городки сливались друг с другом, казались почти неразличимыми. Афины. Южный Каир. Каир. Главные улицы окаймляли приземистые кирпичные строения, чередующиеся с некогда величественными викторианскими особняками и белыми церквушками без шпилей, словно сошедшими с одной и той же гравюры.
Даже люди повсюду выглядели одинаково – мужчины и женщины, равнодушные к моде, шествующие из церкви в свою излюбленную закусочную. Старики попивали кофе на верандах. Проезжая через Престон-Холлоу, Мэри улыбнулась при виде веснушчатого мальчишки, удившего рыбу с деревянного моста, нелепо торчащего посреди города.
На бензоколонке за Ливингстонвиллом, куда она заехала заправиться, грузный седой мужчина в комбинезоне с косматой собачонкой спросил, не надо ли проверить уровень масла. Застигнутая врасплох, Мэри согласилась, забыв о том, что всего неделю назад ставила свой «лексус» на профилактический ремонт. Только что покинув город, где о подобной любезности забыли целую вечность назад, она не могла свыкнуться с новым окружением, местом, где время хотя и не остановилось, но движется в другом темпе.
Сознавать это было приятно и в то же время тревожно. Замедленный темп только подчеркивал, насколько изменилась она сама. Мэри порой казалось, что сейчас она столкнется со своим вторым «я», девушкой, идущей по улице, и не узнает ее. «Как молода я была тогда», – думала она. Она укачивала на коленях младенца, пока ее сверстники бродили с книжками и рюкзаками по кампусам колледжей. Она вставала на рассвете, чтобы сменить подгузник, а по ночам изучала логарифмы и поэзию Лонгфелло, молекулярные формулы и прозу Мелвилла. И всегда, всегда рядом была ее мать.
Возвращение домой представлялось Мэри решением проблемы, но на самом деле ее положение окончательно осложнилось. «Тебе следовало послушаться Чарли», – шептал внутренний голос, за долгие годы эти слова смертельно надоели ей. Чарли верил в них, считал, что если они будут вместе, их молодая семья выживет.
Чарли. Даже спустя много лет мысль о нем вызывала у Мэри глухую боль раскаяния. Вместо того чтобы потускнеть, ее воспоминания стали еще острее. Чарли в день их свадьбы, в. плохо сшитом костюме, сияющий, словно ему только что вручили главный приз. Чарли, со слезами радости на щеках баюкающий их новорожденную дочь.
Одно воспоминание выделялось из общего ряда. Мэри не знала, в ту ли ночь они зачали Ноэль, но предпочитала считать, что так оно и было. Предчувствие чего-то чудесного могло вылиться только в появление дочери. Мэри позволила воспоминаниям увести ее в ту теплую весеннюю ночь, легко нашла протоптанную тропу в рощу, где бывала множество раз. Она увидела себя, сбегающую босиком по берегу ручья навстречу озаренному лунным светом Чарли. Ее сердце было готово выскочить из груди, она прекрасно знала, что произойдет. Это случалось уже дважды – один раз в ее спальне, пока ее родители были в церкви, второй – на заднем сиденье машины Чарли. Но на этот раз все было иначе. Возможно, причиной тому стал лунный свет или же выражение на лице Чарли – такая чистая любовь, что Мэри боялась расплескать ее и воспринимала как драгоценные духи, которые надо расходовать по крошечной капельке. «Он никогда не обидит меня, – думала она. – Что бы ни случилось, я всегда могу быть уверена в этом».
Чарли вынул из багажника старое одеяло и расстелил его под плакучей ивой, приютившей их, как палатка, сплетенная из зеленого кружева. Бледный свет проникал между поникшими ветвями, серебряными долларами ложился на песок. Когда Чарли привлек Мэри к себе, она задрожала, как в ознобе, но его поцелуи были горячими. Отовсюду слышался одобрительный хор лягушачьих голосов. Мэри не помнила, как они оба разделись: в ее воспоминаниях они с самого начала были нагими, Адам и Ева, сотворенные из праха. Чарли, тонкий и длинный, как серебристое лезвие, поцелуями прогонял мурашки с ее обнаженных ног. Она протягивала к нему руки, чтобы показать, что дрожит вовсе не от страха. Тогда она еще не знала, что чувство, переполнявшее ее и похожее на плеск тысячи крыльев, было желанием. В отличие от пламени, которое вспыхивало и тут же угасало в ней в первые два раза, это желание было настойчивым, неудержимым и непонятным.
Чувствуя, что с ней творится, Чарли не торопился. Он целовал ее, пока губы. Мэри не начало саднить, и лишь потом провел ладонью между ее ног. Об оргазме Мэри знала из книг, которые читала по ночам под одеялом, при свете фонарика, – первой из них вспомнился «Любовник леди Чаттерлей», – и уже успела узнать, как это бывает у юношей. Но сама она еще ни разу не достигала оргазма – разве что он был мимолетным и прошел незамеченным. С точки зрения католической церкви грехом были даже прикосновения к самой себе.
А Чарли продолжал ласкать ее, и от каждого шелковистого прикосновения пальцев пламя взметалось все выше. Мэри охватило почти болезненное желание приподняться навстречу его руке. Ее губы открылись, в горле запершило от резко втянутого воздуха. Она смутно сознавала, что набухшее достоинство Чарли прижимается к ее ноге. На миг вся Вселенная сосредоточилась в раскаленной добела, подобной вспышке звезды точке между ее ног. Она вскрикнула, в то же мгновение Чарли вошел в нее, и все вокруг окутал туман, окружающий мир уподобился пейзажам, проносящимся за стеклами машины, а она… да, это точно… о Господи… она испытала оргазм.
Потом она обмякла на одеяле, безвольная, как утопающий, которого спасли чудом.
– Как… как ты догадался? – сумела выговорить она.
Чарли обнимал ее так крепко, что ей казалось, будто на его коже остался слабый отпечаток ее нагого тела, как след большого пальца на запотевшем стекле.
– Я просто знал, – прошептал он.
Такова была сущность Чарли. Каким-то образом он все чувствовал. Он понимал ее, неизменно догадывался, как будет лучше, но Мэри не всегда прислушивалась к его мнению.
Шоссе перед ее глазами расплылось, Мэри сморгнула слезу. К Саймону она не испытывала и подобия таких чувств. Никто из мужчин, с которыми она встречалась и расставалась за минувшие годы, не мог вознести ее на вершину страсти. Она уверяла себя, что первая любовь обычно запоминается навсегда и если бы они с Чарли встретились в другое время, между ними все было бы иначе, но в глубине души знала, что обманывается. Чарли был не таким, как все, а особенным. Бесчисленное множество раз Мэри гадала, как сложилась бы ее жизнь, если бы в тот давний зимний день она поступила по-другому.

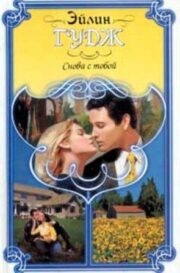
"Снова с тобой" отзывы
Отзывы читателей о книге "Снова с тобой". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Снова с тобой" друзьям в соцсетях.