– Какая она горячая! – забеспокоился он.
– Потому что у нее поднимается температура, – заявила Мэри и решительно направилась к мужу, всем видом показывая, что только она в состоянии справиться с новой бедой. Час назад температура Ноэль была чуть выше тридцати восьми. Но теперь, едва коснувшись щеки дочери, Мэри мгновенно поняла, что положение изменилось к худшему.
Она бросилась в ванную за градусником. Ванную пристроили к дому в начале тридцатых годов, в то же время, когда бывший сарай превратили в жилое помещение. Пол в ванной перекосился. Отпирая непослушными пальцами старую аптечку, Мэри мельком заметила свое отражение в мутном зеркале на дверце шкафчика: огромные глаза на осунувшемся бледном лице, как в программах новостей у очевидцев страшных трагедий.
Чарли неловко положил плачущую дочь на живот поперек коленей, Мэри расстегнула пуговки пушистого комбинезончика, сняла с малышки трусики и подгузник. Оба затаили дыхание, когда серебристый столбик ртути под стеклом быстро пополз вверх. Через несколько минут Мэри поднесла градусник поближе к свету. Ртуть остановилась у отметки сорок градусов.
– О Господи, да она горит! Чарли, надо что-то делать. Мы должны отвезти ее к врачу. – Мэри бросилась в угол, к печке, где возле бугристого раскладного дивана приткнулась кроватка Ноэль. Схватив связанный крючком плед, подаренный им добросердечной женой хозяина дома, Мэри лихорадочно закутала в него дочь.
Все это время Чарли неподвижно стоял у двери. Румянец выступил на его скулах.
– Обогреватель в машине не работает. Она… мы все замерзнем!
Ему было незачем напоминать жене, что до Скенектади, ближайшего места, где живет врач, двадцать минут езды. Разве у них есть другой выход?
– А если мы останемся здесь, у нее начнутся судороги, она может погибнуть! – выкрикнула Мэри, чуть не сорвав голос.
На минуту Чарли задумался, проводя пятерней по волосам от лба к затылку – эта привычка сохранилась у него с тех времен, когда он носил длинные волосы. Нынешний короткий ежик был колким, как шерсть какого-то гибкого длиннотелого зверя. В ярком свете лампочки без абажура, болтающейся под потолком, лицо Чарли казалось мертвенно-бледным. Наконец он резким движением взялся за дверную ручку.
– Значит, нам остается только одно, – бросил он через плечо.
Мэри последовала за ним, крепко прижимая к себе ребенка и не замечая, что угол пледа волочится по снегу. Мысленно она убеждала себя: «Он возьмет у кого-нибудь машину… или попросит кого-нибудь подвезти нас. Ну конечно! Почему я сама до этого не додумалась?»
Легкие хлопья, сыпавшиеся с небес весь день, кружились над головами. Мэри вдруг вспомнила, что в прогнозе погоды говорили: к ночи толщина снежного покрова увеличится еще на несколько дюймов. А они до сих пор не оправились после метели, бушевавшей два дня назад. У ограды намело высокие сугробы, скользкие колеи подъездной дороги обледенели. Неподалеку лошади, обросшие косматой зимней шерстью, тыкались мордами в заснеженную ограду загона. Машина, «форд-пикап» 1959 года, некогда зеленая, а теперь неопределенного болотного оттенка, стояла перед сараем, нос к носу со снеговым плугом.
Чарли помог Мэри сесть в промерзшую кабину и торопливо обошел машину.
– Мы отвезем ее к твоей матери, – объявил он, садясь за руль. Окруженный клубами пара, вылетающими из его рта, он завел двигатель.
Внутри у Мэри что-то дрогнуло и сжалось. Она вцепилась в руку мужа.
– Ни в коем случае! – выговорила она, стуча зубами от холода.
Чарли стряхнул ее руку и обернулся, глядя в заднее окно.
– Но ведь твоя мать – медсестра. – Он включил заднюю скорость, и машина рывком тронулась с места.
– Медсестра на пенсии. Она бросила работу с тех пор, как папа заболел. – Они оба знали, что дело не в том, что мать Мэри на пенсии, и не в болезни ее отца. Однако упоминать вслух истинную причину никому не хотелось. – Она ничем не поможет нам. Она не желает знать ни меня, ни ребенка, Чарли, пожалуйста, поедем лучше к твоей маме! Она наверняка знает, что делать.
– Может быть. Если она не пьяна. – Желвак на скуле Чарли дрогнул: слишком многое осталось недосказанным. Через несколько минут машину тряхнуло на ухабе в самом конце подъездной дороги. Мэри прикусила язык. Она ощутила резкую вспышку боли. Во рту расплылся солоноватый привкус крови.
– Куда ты нас везешь? Ты забыл, что случилось в прошлый раз?
Утром на Рождество, когда Ноэль исполнилась неделя от роду, Мэри в приливе праздничного возбуждения и оптимизма отважилась позвонить домой. Само собой, ее родители знали о существовании ребенка, к тому же медсестра из родильного отделения как-то упомянула, что миссис Куинн приходила заглянуть в окно палаты новорожденных. Но голос матери в телефонной трубке звучал любезно и отчужденно, и не более того. Она сообщила, что старая печь барахлит, но мистер Уилсон пообещал завтра же утром починить ее. Нет, у них нет никакого желания тащиться в Бингхэмптон, на праздничный ужин к тете Стелле. Папе не до поездок – всю неделю он пролежал с сильным кашлем. Триш тоже не может подойти к телефону: ее за уши не оттащишь от нового транзистора.
Через пару минут мать прервала напряженный разговор под тем предлогом, что ей давно пора проведать отца. Она даже не вспомнила ни о внучке, ни о здоровье самой Мэри. Словно Ноэль не существовала, а Мэри была не более чем давним воспоминанием. Лучше бы мать просто повесила трубку, с горечью подумала Мэри.
– На этот раз она не откажет нам в помощи. – Придерживая руль одной рукой, Чарли подался вперед и вытер ладонью запотевшее ветровое стекло.
Мэри бросила тревожный взгляд на раскрасневшееся личико дочери, выглядывающее из складок пледа. К счастью, Ноэль уснула, убаюканная тряской. Машина еле тащилась по извилистой дороге к городу. Чарли прав, думала Мэри. Другого выхода у них нет. Мама не настолько бессердечна, чтобы выгнать их. Она не откажется хотя бы посмотреть на родную внучку.
Еще пять миль, и близ пересечения шоссе 30-А с шоссе 30 показались дома: большие, приземистые, обшитые вагонкой, построенные в тридцатые годы, с ухоженными газонами и аккуратно подстриженными буксовыми изгородями. Дом, в. котором выросла Мэри, стоял на углу Ларкспер-лейн и Кардинал-стрит. Почти неотличимый от соседних домов, он был окружен старыми вязами и кленами, вдоль трех его стен тянулась широкая веранда.
Пока Чарли останавливал машину у дома, на Мэри волной накатила ностальгия. Все вокруг было до боли знакомым: выкрашенная вручную табличка над почтовым ящиком, поползни, вьющиеся над кормушкой, качели на веранде, где Мэри провела столько длинных летних вечеров, листая книги. С глухой болью в сердце она заметила, что водосточная труба осталась неприбитой: она покосилась, отошла от стены дома, как часовой, покинувший пост. До починки этой трубы, как и до многих других дел, у отца так и не дошли руки.
Чарли коснулся ее ладони.
– Если хочешь, подожди здесь, а я позвоню в дверь.
Мэри перевела взгляд на Ноэль, и у нее перехватило горло.
– Нет, я пойду с тобой. – Не может быть, чтобы мама захлопнула дверь перед носом у дочери и больной внучки.
Торопливо шагая к дому с ребенком на руках, чувствуя прикосновение к плечу руки Чарли, Мэри старалась держать голову высоко поднятой. «Если бы не Ноэль, я ни за что не приехала бы сюда, – твердила она мысленно. – Для себя я ничего не прошу».
И все-таки, пока Мэри стояла на крыльце, ей казалось, что ее сердце колотится так громко, что его наверняка слышат за прочной дубовой дверью – так же отчетливо, как она слышит негромкий размеренный перестук материнских шагов.
Дверь распахнулась. Мама рассеянно вскинула голову, словно ее оторвали от уборки или приготовления ужина. Поверх слаксов и розового кардигана на ней был надет передник. Вьющиеся пряди волос оттенка выцветшего имбиря выбились из-под гребней над висками. Она по-прежнему выглядела крепкой, но сильно похудела. Ее квадратный подбородок уже не был мясистым, яснее обозначились скулы. От яркого света она щурила голубые глаза так, будто уже давно не выходила на улицу.
Первые несколько секунд все молчали. Только пар от дыхания клубился в морозном воздухе да с сосулек на карнизах со звоном падали капли. Наконец мама прижала ладонь к высокой груди и воскликнула:
– Боже правый, Мэри Кэтрин! Что у тебя стряслось?
Мэри, которая за тридцать шесть часов родовых мук ни разу не позвала мать, открыла рот, чтобы заявить: любая мать сразу должна была бы сообразить, что с ее дочерью случилась беда. Но, не успев выговорить ни слова, она разрыдалась.
Рука Чарли крепче обвила ее талию.
– Ребенок заболел, – объяснил он. В его голосе слышалась тревога, но ни тени мольбы. Он стоял прямо, глядя на хозяйку дома в упор. Никогда еще Мэри не гордилась им так, как в эту минуту.
Взгляд матери упал на хохолок волос, торчащий из складок пледа. Ее лицо осталось бесстрастным, но, судя по всему, в ее душе разгорелась краткая, но ожесточенная борьба. Наконец она недовольно поджала обведенные тонким красным карандашом губы и поспешно отступила, пропуская нежданных гостей в дом.
– Не понимаю, о чем вы думали, потащив ребенка в такую даль, да еще в мороз. Вам следовало позвонить, – с упреком заявила она. – Давай мне ребенка. Боже, да он горит!
Мэри разом обмякла, словно только маленький сверток поддерживал в ней присутствие духа. Еле переставляя ноги по ступенькам, она ощутила, как дом берет ее в теплые, уютные объятия. Даже знакомые запахи пробудили в ней яркие, почти осязаемые воспоминания: ломтики бекона, аккуратными рядами разложенные на промасленных бумажных салфетках, хрустящие накрахмаленные простыни, глубокие ящики комода, откуда пахло сушеной лавандой…
В своей комнате наверху, где ее охватило почти животное чувство облегчения и где все осталось как прежде, Мэри застыла, глядя, как ее мать укладывает вялого от жара ребенка на кровать. Мэри переминалась в нерешительности. Мать двигалась быстро и уверенно в своих удобных домашних туфлях и клетчатом переднике с карманами, обшитыми тесьмой, – для мелких монет, пуговиц и конфетных фантиков, вытащенных из-за диванных подушек и из-под кроватей.

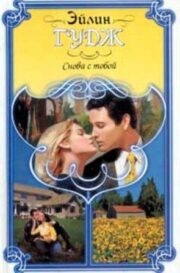
"Снова с тобой" отзывы
Отзывы читателей о книге "Снова с тобой". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Снова с тобой" друзьям в соцсетях.