Хантер поскорее принялся за еду, готовый отвлечься на все, что угодно, лишь бы его взгляд перестал шарить по телу Сэйбл. Он чувствовал себя немного смущенным от того, что на этот раз не участвовал в добывании дичи. Это было как-то не по-мужски. Когда Сэйбл, заметив пятнышко жира на его подбородке, естественным жестом потянулась его стереть, он нахмурился и почти отшатнулся.
— А лошади где? — спросил он позже, вспомнив, что в задней части пещеры Сэйбл устроила баню.
— Ниже по склону, на лужайке. Я их навьючила, стреножила и оставила пока пастись.
По правде сказать, после испытаний позавчерашнего дня Сэйбл нелегко было управиться сразу с двумя лошадьми, но она поняла, что дело того стоило, заметив нескрываемое одобрение в глазах Хантера.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил он.
— Отлично. Уверена, что не заболею.
Она не спросила:» А как твои дела?» — но это было и не нужно. Хантер отвернулся недостаточно быстро. Сэйбл заметила выражение стыда на его лице.
— Мне надо побриться, — буркнул он, потирая колючий подбородок.
Она тотчас вскочила, принесла снаружи емкость с водой, начала шарить в мешке Хантера в поисках бритвенных принадлежностей. Когда она разложила все необходимое для бритья и улыбнулась, ответом был свирепый взгляд, от которого ее оживление разом померкло.
— Прекрати так вести себя, Сэйбл!
— То есть?
— Прекрати нянчиться со мной. В конце концов я же не калека!
— Конечно, ты не калека, но… — она заметила, что смущенно сплетает и расплетает пальцы, и заставила себя принять более непринужденную позу, — ты ведь тоже возился со мной совсем недавно. И потом, мне просто приятно заботиться о тебе.
Это обезоружило его, заставив потянуться и привлечь Сэйбл к себе. Она плакала теперь очень редко, даже если бывала обижена, но Хантер обычно сам чувствовал несправедливость своих упреков и жестокость тона. Ее ответное объятие было очень крепким.
— Прости, милая, — вырвалось у него. — Я бы отдал полжизни, чтобы избавить тебя от того, что случилось здесь, в пещере.
— Все дело в том, что я перепугалась до полусмерти. Надеюсь, ты никогда больше не будешь таким, как тогда.
После долгого напряженного молчания Хантер пожал плечами и ответил:
— Я ничего не могу обещать тебе, Сэйбл, и ты, конечно, сама это понимаешь.
— Но ты уже обещал мне! Там, на берегу реки, ты сказал, что я победила. Разве это не означало, что отныне мы будем разговаривать на любую тему? Тебе стало бы легче…
— Сэйбл, уймись… — Это было сказано таким усталым голосом, что у нее сжалось сердце.
— Могу я хотя бы узнать, почему ты отказываешься разделить со мной свое прошлое? — упрямо продолжала она. — Мы уже разделили с тобой столько всего, что нет никакого смысла мучиться чем-то в одиночку.
В ее голосе не было негодования или обиды, одно лишь искреннее желание понять. Хантер подумал: ей кажется, что это будет исповедь за исповедь, что его тайна не страшнее той, которую недавно таила она. Он подавил вздох.
— Ты не понимаешь, Сэйбл. Есть вещи, о которых не говорят, вещи безобразные, унизительные, слишком ужасные…
— Что может быть ужаснее револьвера, приставленного к виску? — перебила она. — Я видела это, но до сих пор жива и даже не тронулась рассудком. Это было, конечно, серьезное потрясение. Вот если бы ты раньше все мне рассказал, предупредил меня, то я была бы готова.
— Пожалуй, ты права, — неохотно допустил Хантер, с новым жаром мысленно обвиняя себя в том, что ей пришлось пережить. — Скажи, как ты представляешь себе мою исповедь? Что ты хочешь знать?
— Я ничего от тебя не требую, кроме одного, Хантер. — Она вдруг отстранилась и с силой ткнула его кулаком в плечо. — Просто скажи, что ты не желаешь смерти!
Хантер ответил не сразу. Долгое время он прости смотрел ей в глаза — глаза такого странного, такого редкого фиолетового оттенка — и думал:» Я хочу жить уже ради того, чтобы снова и снова смотреть на тебя «. Но он боялся, что Сэйбл не поверит. Мужчина, который находит счастье в том, чтобы видеть лицо женщины, не станет приставлять оружие к виску. Даже если порой он не сознает, что делает.
— Скажу одно: я рад, что ты помешала мне, — наконец ответил он уклончиво. — Даже среди мужчин немного найдется тех, кто осмелится схватиться с вооруженным безумцем. Я горжусь тобой, но предпочел бы, чтобы этого не случилось, чтобы ты никогда не видела меня в таком состоянии. — Передернувшись от отвращения к себе, Хантер отстранил Сэйбл и добавил:
— Во мне слишком много того, с чем приходится бороться снова и снова. Я болен, болен душой.
— А что, если ты, сам того не сознавая, не позволяешь себе выздороветь? — настаивала она, удерживая его за плечи и не давая отвернуться, не давая вновь укрыться в воображаемой крепости. — Да, ты выжил. Ну и что в этом плохого? То было время, когда рушился мир, когда земля уходила из-под ног, когда мало кто мог разобраться, что есть зло, а что — нет. Ты делал тогда все, что мог, отдавал всего себя. О Хантер! Неужели ты думаешь, что один ты пришел с войны со шрамами в душе? Таких тысячи и тысячи, но они нашли в себе силы начать жить заново. Они простили себя за то, что выжили. Прости себя и ты.
Не находя решимости оттолкнуть ее, Хантер зажмурился до боли в глазах. Простить себя. Как легко она говорила об этом! Вот только он не сумел, как ни старался.
— Ты говоришь, простить? За то, что по моей вине в муках погибли люди?
— А разве они шли на войну, не сознавая, что могут умереть? — Внезапно возмутившись, Сэйбл испытала сильнейшую потребность влепить ему хорошую отрезвляющую оплеуху. — Ты говоришь, что тюрьма безобразна. Война сама по себе безобразна, Хантер. Она бывает героической, мужественной и благородной только в книгах. Ты делал то, что считал своим долгом, и не можешь, не должен нести груз вины до конца дней. Что бы ни случилось с тобой, нельзя бесконечно прятаться от жизни.
— Ты ни черта не знаешь! Война войной, но люди, о которых я говорю, отдали жизнь не в бою. Они умерли постыдной смертью: от голода и дизентерии — потому только, что для конфедератов это был способ получить от меня сведения. Теперь понятно, почему я виню себя в их смерти? Они гнили заживо, их мучили и избивали, а я… Я молчал. Ты права только в том, что ничего благородного в войне нет. На деле моя верность долгу выглядит подлостью.
— У каждой медали есть две стороны, — мягко возразила Сэйбл. — Молчание, за которое ты так винишь себя, было символом верности не просто долгу, а всему тому, за что сражались и умирали люди на всех фронтах той войны. Сам Господь, при всем Его милосердии, не дал бы тебе совета нарушить молчание.
Что-то сломалось в нем при этих словах — какой-то острый, безжалостный штырь, много лет назад пронзивший душу. Это не было еще освобождением, не было даже началом выздоровления, но что-то изменилось, позволив Хантеру с бессознательным вздохом облегчения прижаться лбом к плечу Сэйбл.
— Если бы не твое молчание, умерли бы другие, и их было бы гораздо больше. Лейтенант был прав, Хантер.
Он отшатнулся. Сэйбл бесстрашно встретила его потрясенный взгляд, не собираясь скрывать, что ей многое известно. Она слышала частый взволнованный стук его сердца, видела мертвенную белизну лица и почти чувствовала боль, которую он испытывал. Но она не могла поступить иначе: страдания Хантера должны были когда-нибудь закончиться.
— Ты сам рассказал мне все прошлой ночью. Все, понимаешь? — Она повысила голос, заглушая сдавленное проклятие. — Я ни о чем не спрашивала, Хантер, ничего не требовала от тебя. Не думай, что я воспользовалась моментом. Ты сам хотел рассказать мне, пойми! Теперь я знаю.
— Это невозможно… — только и мог он ответить.
Он ничего не помнил о том, что исповедался Сэйбл. До сего дня он был свято уверен, что не выдал свою постыдную тайну ни единым словом. Ни одной живой душе. Только Дугал Фрейзер сумел вытянуть из него клещами тот факт, что некий молоденький лейтенант покончил жизнь самоубийством по его, Хантера, вине. И вот Сэйбл утверждала, что знает все.
— Что ты знаешь? — прохрипел он.
— Все. Про то, что делали с тобой тюремщики. Про самоубийство лейтенанта и про то, что толкнуло его на это…
— Хватит? — крикнул Хантер, чувствуя на глазах слезы абсолютного, ни с чем не сравнимого унижения. — Ты не должна была знать, никогда! Я этого не вынесу?
— Вынесешь, — сказала она с неожиданной твердостью, удивляясь себе. — Ты вынесешь это, Хантер. И я тоже вынесу это.
Он вдруг понял, что смотрит ей в глаза.
Головни в костре зашипели, рассыпаясь, разлетаясь роем оранжевых искр.
Больше всего на свете Хантеру хотелось отвести глаза, убежать и спрятаться, даже зарыться в землю. Теперь, когда Сэйбл знала, он мог быть ей только противен. Она была слишком леди, чтобы принять такое. Но она повторила:
— Я вынесу, Хантер. Потому что я люблю тебя.
Внезапно он почувствовал себя свободным — мгновенно, почти болезненно. Вертел, долгие годы сверливший душу, просто исчез. Рана еще кровоточила, еще мучила и впредь могла не раз воспалиться, но она неминуемо должна была зарубцеваться со временем. Хантер не сознавал всего этого. Он просто опрокинулся на одеяло, потянув с собой Сэйбл и зарывшись лицом в ее волосы. От нее исходил восхитительный свежий запах. Господи, какой же она была чистой! В ней было столько чистоты, что могло хватить на них обоих.
Он дышал и дышал, не в силах оторваться от нее. Он слишком давно не дышал полной грудью.
Он начал целовать ее и не мог остановиться. Это было утолением жажды после долгой и трудной дороги. Как он хотел ее! Так, словно никогда еще ничего не было между ними, словно он все еще изнемогал от мучительной, затаенной и неутоленной страсти. Он хотел признаться, что тоже любит, любит давно, но не мог произнести ни слова, ни даже звука, только пил и пил сладкое вино ее рта, зная уже, что жажда его неутолима.

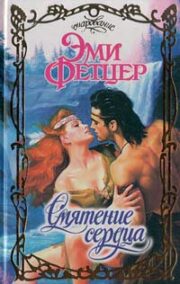
"Смятение сердца" отзывы
Отзывы читателей о книге "Смятение сердца". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Смятение сердца" друзьям в соцсетях.