Белла доливает чай в кружки.
— Но в конце концов стало лучше. — Фрэн машет рукой в ответ на вопросительно поднятую Беллой бровь. — Нет. Я знаю, о чем ты думаешь. Меня так злило, когда люди начинали опекать меня и лезть со всей этой ерундой вроде «время — лучший лекарь». Но мои чувства действительно изменились. Господь свидетель, я не забыла его. Ничто не будет таким, как прежде. Жизнь стала другой. И я стала другой. Но боль притупилась Я могу с радостью вспоминать о нем, не чувствуя себя постоянно несчастной. Так я постепенно избавилась от тяжести.
Наступает молчание. Фрэн встает и снова наполняет чайник, роется в хлебнице в поисках чего-нибудь, из чего можно сделать тосты.
— У тебя ведь тоже была в жизни потеря, верно?
Слышно, как пыхтит чайник, зажигается спичка, мягко шипит газ.
— Извини. Может, ты не хочешь говорить об этом?
— Да нет, не в этом дело. Мне это трудно. Это так…
Она крепко сжимает зубы, стараясь сдержаться, но губы трясутся, она хватает воздух широко открытым ртом и начинает бормотать: ей так страшно — она не может не думать о Патрике — она не осмеливалась — это будет как предательство — ему нужно, чтобы она держалась за него, — или он действительно, действительно исчезнет.
Все расплывается у нее в глазах.
— А потом она встретила Уилла, — продолжает Белла, — и почувствовала себя виноватой, что так сильно любила его, затем боялась, что и его потеряет. Она этого не перенесет — только не Уилла — она бы не смогла — эта боль убьет ее — она перестанет существовать. И она все так запутала и выгнала его, и это ужасно. Он даже не знает, как она любит его, потому что она не сумела сказать ему об этом, потому что боялась. Она только знала, что если она признается в этом, возьмет это на себя, — его у нее отнимут — она будет наказана — ей будет позволено быть счастливой недолго — только для того, чтобы усыпить ее бдительность, поселить в ней ложное чувство безопасности. Как только она привыкла бы к нему и жизнь их наладилась, как — БАМ! — и он попал бы под грузовик, или у него нашли бы рак, или ему пришлось бы уехать в Окленд — и она не смогла бы ничего, ничего сделать. Только теперь… Теперь она все равно потеряла его, но это не так тяжело, потому что она, по крайней мере, ожидала этого, сама это подстроила. И, по крайней мере, знает, где он находится. На самом деле, все не так уж и плохо. Правда.
И опять она почувствовала, что руки Фрэн гладят ее волосы и обнимают ее, услышала, как она что-то тихонько шепчет ей.
— Ну вот, теперь ты вся в моих слезах и соплях, — плачет Белла.
— Шшш-шшш. Я все равно никогда не любила эту блузку.
Белла глубоко всхлипывает, рыдания сотрясают ее плечи. Слезы смывают тушь с ее ресниц, и она черной паутиной растекается по щекам. Она вытирает нос тыльной стороной ладони:
— Нет, я соврала, теперь все еще хуже — гораздо х-х-хуже.
Фрэн все еще обнимает ее, и Белла смотрит не нее снизу вверх.
— Я никогда и никому не говорила об этом. Когда ты узнаешь, то возненавидишь меня.
— Ну-ну, успокойся, я никогда не буду тебя ненавидеть.
Белла сидит тихо, почти успокоившись. Она сморкается и глубоко вздыхает, вспоминая. Наконец-то пришло время рассказать.
Она знала об этом уже несколько недель, даже месяцев, если признаться честно. Когда у нее впервые возникла эта мысль? Когда она позволила ей возникнуть? Кажется, это ощущение впервые появилось где-то глубоко внутри, в костях, потом просочилось в кровь и вместе с ней попало в голову, в сердце. Сейчас оно проникло под кожу, и не замечать его уже невозможно. Только иногда она может позволить себе отвлечься, занявшись чем-нибудь интересным. Поэтому она проводит долгие часы на работе, рано встает и идет в бассейн, где даже получает удовольствие от хлорки, которая забирается в ноздри, щиплет глаза, смывая постыдные эгоистичные мысли. Она даже начинает работать над гобеленом, перенося на разграфленную бумагу в качестве образца старую картину, которую она написала, еще когда жила с родителями. По вечерам она позволяет себе заниматься только малюсенькими квадратиками, раскрашенными цветными карандашами, погружаясь в малюсенькие стежки. Она — как ученый, склонившийся над микроскопом, — находится на грани открытия.
Патрик со смехом комментирует:
— Всякий подумает, что у тебя любовник, Бел. Все эти поздние часы в офисе…
— Э-э-э, ерунда, дорогой. Важный клиент, вот и все.
Она притворялась, что смущена, чтобы поддразнить его, как будто он подловил ее на чем-то, раскрыл какой-то большой секрет, а он лишь заразительно смеялся.
Но он так ничего не узнал об этом. Похоже, он ни о чем не догадывался.
Белла почти хотела, чтобы у нее и впрямь был любовник и появился кто-то другой, на кого она могла бы кивнуть и сказать: «Видишь? Вот почему». Как все было бы просто!
Проходит день за днем, и она чувствует, как увеличивается разрыв между тем, что она думает и делает. Она вроде бы наблюдает за собой со стороны. Как будто передвигается по квартире, на шаг отставая от своего фальшивого образа, посмеиваясь над его блестящими манерами и улыбками. Как только Патрик не видит этого? Ведь в какой-то миг он обязательно увидит ее, трясущуюся позади этого отвратительного улыбающегося фасада.
— Все в порядке? — Патрик треплет ее по коленке, постукивая в такт карандашом по газете с кроссвордом.
— Да. Все отлично, — отвечает она и чувствует себя дрессированным спаниелем.
Она начинает обдумывать, когда об этом сказать Патрику. Не в эти выходные, потому что мы идем к его родителям. Не на этой неделе, потому что он поздно вернется с работы. В следующие выходные? Возможно. Потом наступают выходные, и на ужин приходят друзья, или Патрик в плохом настроении, или у нее начинаются месячные. Может, она сделает это во вторник, побыстрее, пока они не начали готовиться к его дню рождения, или… О, мой Бог! Уже вот-вот Рождество. Ладно, лучше подождать с этим до конца праздников.
И вот уже 18 января. Она стоит в маленькой белой комнате, глядя на тело Патрика, распростертое перед ней. «Я самозванка, — говорит она себе, — отвратительная обманщица, которая не заслуживает его». Но все же, несмотря на шок, она чувствует, что рада, ведь она так и не сказала ему этого, не испортила последние месяцы его жизни. Она рада, что не сказала ему эти жестокие слова:
— Патрик, я больше так не могу. Не могу быть с тобой. Я — я не люблю тебя.
Фрэн заходит пожелать ей спокойной ночи и тепло укутывает ее, как ребенка. Белла уткнулась подбородком в отвернутый край простыни, устраиваясь поуютнее и ощущая себя завернутым в салфетку сэндвичем. Она долго разглядывает обои с розочками. У них неровные края и как попало склеенные стыки. Лампочка около кровати освещает несколько веселых кувшинок вместе с пушистыми веточками и маленькими ромашками, торчащих из маленькой синей вазочки. Забавно, думает она, я никогда не замечала, до чего прелестны кувшинки, как идеален каждый лепесток, как он гладок. Она потихоньку засыпает, и, когда ее веки смыкаются, их желтые головки согревают ее как солнышки.
Патрик идет впереди, за ним очень трудно угнаться. Его длинные ноги уносят его все дальше — с каждым шагом. Запыхавшись, она все-таки догоняет его и берет за плечо. Он оборачивается, похоже, он удивлен и даже немного раздражен. Потом он опускается на землю и жестом приглашает ее прилечь рядом.
Здесь холодно, кожей она чувствует сырое, неласковое прикосновение воздуха. Она ложится на землю рядом с ним. В этом молочном свете его лицо кажется неясным, расплывчатым. За спиной она чувствует бетонный бордюр, под собой — острые камни его могилы. Они впиваются ей в кожу, в тело, но она пытается не застонать, чтобы он ничего не заметил. Похоже, он забыл о ней. Вдруг он ударяет ладонью по надгробному камню.
— Хорошее, твердое изголовье, а? — говорит он и смеется.
Она старается улыбнуться шутке, но его лицо уже снова серьезно. Он берет ее за руку, и у нее перехватывает дыхание: его кожа холодна, как камень, и тонка, как пленка расплавленного воска. Она видит, как он медленно поднимает ее руку, будто та существует отдельно от нее, и указывает на памятник. Он проводит ее пальцем по надписи в самом низу.
R.I.P.
Некоторое время он смотрит на нее, а потом закрывает глаза. Она опять проводит пальцем по надписи, ощущая бороздки на камне, желая, чтобы эти буквы врезались в ее память навсегда. Вдруг ей становится все совершенно ясно. Теперь она знает, что же на самом деле значат эти буквы. Покойся в мире. Их написали здесь не для мертвых, которые тихо лежат в рыхлой земле и у которых больше нет мыслей и страхов, чьи радости и боль забыты.
Это надпись для живых.
Раннее утро. Тонкий лучик света озаряет комнату. Она открывает глаза и начинает тихонько плакать.
31
Она роется в своем альбоме для эскизов. Они где-то здесь, да. Вот, у нее есть несколько набросков да еще память. Память о нем.
Она начинает писать. Она пишет его таким, каким он запомнился ей — худощавое тело неловко втиснуто в кресло, одна нога перекинута через подлокотник. Если бы удалось уловить то движение, когда он, читая книгу, крутит ногой сначала в одну сторону, затем в другую! Может, нарисовать ступню под углом, чтобы чувствовалось движение? Она знает, что должна написать все за один раз, сейчас, пока она все так четко помнит: его голос, его нежные прикосновения. Эти воспоминания придают силы, дарят вдохновение, позволяющее перенести их на бумагу.
Она понимает, что получилось хорошо, даже лучше, чем она ожидала. Ведь зачастую живопись для нее становилась работой, и даже более того — битвой с присущими краске, бумаге или холсту ограничениями, с творческим бессилием, когда между образом в ее голове и его вялым воспроизведением на холсте возникает непреодолимый разрыв. Но иногда случалось так, что картина, которую она представляла себе и видела внутренним взором, сама выпархивала из-под ее кисти, как бабочка, присевшая отдохнуть, и это был поистине редкий и оттого драгоценный подарок.

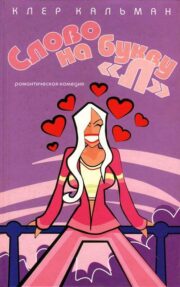
"Слово на букву «Л»" отзывы
Отзывы читателей о книге "Слово на букву «Л»". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Слово на букву «Л»" друзьям в соцсетях.