Уборщица-латиноамериканка драила пол у входа. Из кассетника в углу вырывались задорные, в ритме польки, звуки техасской музыки. Уборщица, подняв на нас глаза, быстро затараторила по-испански:
– Cuidado, el piso es mojado.
По-испански я знала всего несколько слов, а потому, совершенно не понимая, что она хочет сказать, виновато покачала головой. Но Харди не замедлил с ответом.
– Gracias, tendremos cuidados. – Он положил ладонь мне на спину. – Осторожно, пол мокрый.
– Ты говоришь по-испански? – слегка удивилась я. Его темные брови приподнялись.
– А ты нет?
Я сконфуженно покачала головой. Тот факт, что я вопреки происхождению не говорю на языке своего отца, у всех всегда вызывал смутное удивление.
В дверях конторы возникла высокая, тяжеловесная фигура. Луис Сэдлек на первый взгляд казался привлекательным мужчиной. Однако при ближайшем рассмотрении оказывалось, что это лишь остатки былой красоты: на его лице и на теле лежала печать разложения – следствие привычки потворствовать своим слабостям. Полосатую ковбойку он носил навыпуск, пытаясь скрыть складку на талии. Ткань на его штанах выглядела дешевым полиэстером, однако сапоги были сшиты из окрашенной в синий цвет змеиной кожи. Ровные, правильные черты его лица портили багровые отеки вокруг шеи и на щеках.
Сэдлек посмотрел на меня с небрежной заинтересованностью, и его губы растянулись в сальной улыбочке. Сначала он обратился к Харди:
– Что за черномазенькая?
Краем глаза я увидела, как девушка-уборщица насторожилась и перестала тереть пол. Ей, наверное, достаточно часто приходилось слышать это слово в свой адрес, чтобы понимать, что оно значит.
Заметив, как Харди стиснул зубы и сжал кулаки, я поспешила заговорить:
– Мистер Сэдлек, я...
– Нe называйте ее так, – сказал Харди таким тоном, что мне стало не по себе.
Они с Сэдлеком твердо смотрели друг на друга с почти осязаемой враждебностью. Мужчина, уже давно переживший свой расцвет, и мальчишка, который еще не вступил в эту пору. Но завяжись драка, сомнений в ее исходе у меня не было.
– Я Либерти Джонс, – сказала я, пытаясь разрядить напряженную атмосферу. – Мы с мамой въезжаем в новый трейлер, – Я выудила из заднего кармана конверт и протянула его Сэдлеку. – Она просила меня передать вам.
Сэдлек взял у меня конверт и спрятал его в карман рубашки, неспешно ощупывая меня взглядом с головы до ног.
– Диана Джонс – твоя мама?
– Да, сэр.
– Как это у такой женщины родилась такая смуглая девчонка? Должно быть, у тебя отец мексиканец.
– Да, сэр.
Сэдлек, презрительно усмехнувшись, покачал головой. По его лицу снова поползла улыбка.
– Скажи своей маме, чтобы в следующий раз сама занесла чек за ренту. Скажи ей, мне нужно кое о чем с ней потолковать.
– Хорошо. – Торопясь как можно скорее отделаться от него, я потянула Харди за неподатливую руку. В последний раз бросив на Луиса Сэдлека угрожающий взгляд, Харди наконец последовал за мной к двери.
– Зря ты, девочка, водишься с такими, как Кейтсы, – бросил Сэдлек нам вслед. – От них одни неприятности. И Харди – худший из всех.
Пообщавшись с ним лишь минуту, я чувствовала себя так, словно погрузилась по уши в кучу мусора. Обернувшись, я с изумлением посмотрела на Харди.
– Вот придурок, – сказала я.
– Да уж.
– А у него жена и дети есть?
Харди покачал головой:
– Насколько я знаю, он дважды разведен. Некоторые женщины в городе его как будто считают завидным женихом. Так, глядя на него, не скажешь, но кое-какие деньжата у него водятся.
– Доходы от стоянки трейлеров?
– Да, и еще кое-какой побочный бизнес, а может, и не один.
– Какой побочный бизнес?
Харди невесело рассмеялся:
– Лучше тебе не знать.
В задумчивом молчании мы подошли к перекрестку внутри нового кольца. Теперь, с наступлением вечера, сквозь тонкие стены фургонов наружу просачивались голоса и звуки работающих телевизоров, запахи готовящейся еды. Белое солнце, медленно истекая кровью, легло на линию горизонта, постепенно пропитывая все небо насквозь пурпуром, оранжевыми и малиновыми тонами.
– Здесь? – спросил Харди, останавливаясь перед нашим белым прицепом с аккуратной окантовкой из алюминия.
Я кивнула, не дожидаясь, пока в окне кухоньки появится абрис маминого профиля.
– Да, здесь, – с облегчением подтвердила я. – Спасибо.
Я стояла, глядя на Харди снизу вверх сквозь свои очки в коричневой оправе, а он протянул руку и откинул выбившуюся из моего хвоста прядь волос. Огрубелый кончик его пальца с жесткой нежностью прошелся по моим волосам, как щекочущее прикосновение шершавого кошачьего языка.
– Знаешь, кого ты мне напоминаешь? – сказал он, разглядывая меня. – Сычика-эльфа.
– Такого не бывает, – сказала я.
– Бывает. Они водятся в основном на юге в долине реки Рио-Гранде. Но нет-нет да и доберется какой-нибудь сычик до наших краев. Я одного такого видел. – Харди, раздвинув большой и указательный пальцы, показал расстояние в пять дюймов. – Они вот такусенькие. Прелестные такие маленькие птички.
– Я не маленькая, – запротестовала я.
Харди улыбнулся. На меня легла его тень, закрывая глаза от слепящих лучей заходящего солнца. Я чувствовала внутри какое-то незнакомое волнение. Хотелось шагнуть в эту тень глубже, так чтобы прикоснуться к его телу, ощутить на себе его руки.
– А Сэдлек, знаешь ли, был прав, – проговорил Харди.
– Насчет чего?
– От меня одни неприятности.
Я это знала. Это знали мое разбушевавшееся сердце, мои подгибающиеся колени и тело, по которому разливалось тепло.
– Я люблю неприятности, – выдавила из себя я, и в воздухе тут же заклубился его смех.
Широко, грациозно шагая, он двинулся прочь, постепенно превращаясь в одинокий темный силуэт. Я вспомнила его сильные руки, которые почувствовала, когда он поднимал меня с земли. Я смотрела ему вслед, пока он не исчез из виду. В сведенном судорогой горле запершило, как после ложки теплого меда.
Закат завершился длинной расщелиной в небе на горизонте, через которую проникал свет, будто небо – огромная дверь, приоткрыв которую Господь бросает на Землю последний взгляд. «Спокойной ночи, Уэлком», – сказала я про себя и вошла в фургон.
Глава 2
Дома приятно пахло новой пластмассой и новым ковровым покрытием. Это был четырнадцатифутовый прицеп с двумя спальнями и забетонированным патио позади. Мне разрешили самой для своей комнаты выбрать обои – букетики розовых роз с вплетенными в них синими ленточками по белому полю. Мы никогда прежде не жили в доме на колесах и до переезда в Уэлком снимали дом в Хьюстоне.
Мамин друг Флип, как и прицеп, был новым приобретением Он получил это прозвище благодаря привычке постоянно перескакивать с одного телеканала на другой[2], что поначалу не беспокоило, но некоторое время спустя стало просто бесить. В присутствии Флипа смотреть передачу дольше пяти минут было невозможно.
Я так никогда и не поняла, зачем мама пустила его к нам жить: Флип абсолютно ничем не отличался от ее остальных любовников. Он напоминал дружелюбного огромного ленивого пса-симпатягу с наметившимся пивным брюшком, с лохматыми длинными патлами на шее и безмятежной улыбкой. С самого первого дня мама содержала его на свою зарплату рецепционистки в местной компании, занимающейся проверкой полноценности права собственности на недвижимость. Флип же никогда не работал, и хоть никаких возражений против работы не имел, мысль о том, чтобы ее искать, вызывала в нем стойкое отвращение – обычное дело среди реднеков[3].
Но Флип все равно мне нравился, потому что мог рассмешить маму. Звуки ее ускользающего смеха были очень дороги мне. Если б только можно было поймать ее смех, заключить его в керамический сосуд и хранить там вечно!
Я вошла в дом. Флип валялся на диване с пивом, а мама расставляла банки в кухонном шкафу.
– Привет, Либерти, – приветствовал меня Флип.
– Привет, Флип. – Я прошла в кухню, чтобы помочь матери. Ее гладкие светлые волосы сияли, освещенные дневной лампой. Мама была блондинкой с тонкими чертами лица, загадочными зелеными глазами и трогательным ртом. О ее поразительном упрямстве намекала лишь резкая, четкая линия подбородка, заостренного, как нос старинного корабля.
– Либерти, ты отдала чек мистеру Сэдлеку?
– Да. – Взяв пакеты с пшеничной и кукурузной мукой и сахаром, я убрала их в буфет. – Мам, он конченый придурок. Обозвал меня черномазой.
Мама резко развернулась ко мне лицом. Ее глаза метали молнии, лицо пошло красными пятнами.
– Вот скотина! – воскликнула она. – Надо же! Флип, ты слышал, что говорит Либерти?
– Нет.
– Он назвал мою дочь черномазой.
– Кто?
– Луис Сэдлек. Управляющий ранчо. Флип, оторви наконец от дивана свою задницу и пойди поговори с ним. Сейчас же! Скажи, что если он еще хоть раз сделает это...
– Милая, сейчас это слово уже ничего такого не означает, – запротестовал Флип. – Так уже все говорят. Без всякой задней мысли.
– Не смей оправдывать его! – Мама обняла и прижала меня к себе, словно бы защищая. Удивленная ее бурной реакцией (ведь меня, в конце концов, так обзывали не в первый раз и, уж конечно, не в последний), я еще с минуту оставалась в ее объятиях, а потом высвободилась.
– Да я не переживаю, мам, – сказала я.
– Всякий, кто так говорит, доказывает лишь, что сам он тупая скотина, – отчеканила она. – В мексиканцах ничего дурного нет. Ты сама знаешь. – Мама огорчилась за меня больше, чем я.
Я всегда остро сознавала, что не похожа на маму. Стоило нам с ней где-нибудь появиться, как нас начинали с любопытством разглядывать. Мама беленькая, словно ангелочек, а я – черноволосая, явно из латиносов. Я уже давно смирилась с этим. Быть мексиканкой наполовину – все равно что быть ею на сто процентов. А потому меня неизбежно будут обзывать черномазой, хотя я коренная американка и Рио-Гранде толком не видела.

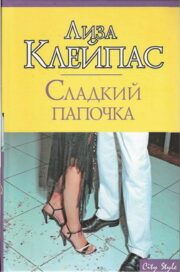
"Сладкий папочка" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сладкий папочка". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сладкий папочка" друзьям в соцсетях.