— У меня такое впечатление, что ты ведешь двойную жизнь, — сказал он в другой раз. — Ты — и взрослый человек, и в то же время — ребенок, который не отвечает за свои поступки, которого часто наказывают и который нерасторжимо связан с теми, кто его осуждает: ведь ты сама предоставляешь другим право тебя осуждать по той простой причине, что в любой момент можешь заставить их страдать.
Она встряхнула головой, взгляд ее ничего не выражал.
Очередная вечеринка у Северина была в самом разгаре, вокруг стоял такой гвалт, что они могли наконец спокойно побеседовать.
— То же самое говорит Алан, так что здесь у вас полное единодушие. Что еще вы можете мне предложить? — спросила Жозе.
— Я?.. — он хотел было ответить «все», потом подумал, что это будет смахивать на реплику из плохого романа. — Я? Не обо мне речь. Речь о том, что ты несчастна и несвободна. И это совершенно не вяжется с твоей натурой.
— А что с ней вяжется?
— Все, что тебе не в тягость. Его любовь тебе тягостна, а ты считаешь, что так и надо. Но как раз так и не надо.
Она достала сигарету, прикурила от зажигалки, которую он поднес, и улыбнулась.
— Послушай, что я скажу. Алан убежден, что каждый человек барахтается в своем дерьме, никто и ничто не в силах его из этого дерьма вытащить — во всяком случае, здесь бесполезны собственные жалкие потуги или невнятные самозаключения. Посему сам Алан неисправим, к нему нет никаких подходов.
— А ты?
Она прислонилась к стене, как-то вдруг расслабилась и заговорила столь тихо, что ему пришлось низко к ней склониться.
— Я не верю в никчемность человека. Не выношу подобной философии. Безнадежных людей не бывает. Я считаю, что каждый пишет картину своей жизни раз и навсегда, уверенной рукой, широкими, свободными мазками. Я не понимаю, что такое серость бытия. Скука, любовь, уныние или лень — все человеческое для меня наполнено поэзией. Короче…
Она положила свою руку на руку Бернара, слегка сжала ее, и он понял, что на какое-то мгновение она забыла о неусыпном взгляде Алана.
— Короче, я не верю, что мы — некое темное племя. Мы, скорее, животные, наделенные разумом и поэтической душой.
Он сжал ее ладонь в своих, и она не сделала попытки освободиться. Ему хотелось прижать ее к себе, целовать, утешать. «Милый мой зверек, — прошептал он, — маленький, полный поэзии зверек». И она медленно отодвинулась от стены и спокойно, у всех на виду поцеловала его. «Если этот кретин посмеет поднять шум, — подумал он, не открывая глаз, — если этот озабоченный тип сейчас вмешается, я его сокрушу». Но ее губы уже оторвались от его губ, и он понял, что можно вот так, при всем честном народе, целоваться взасос, и никто этого не заметит.
Жозе тотчас же от него отошла. Она не понимала, что толкнуло ее поцеловать Бернара, но никакого стыда не испытывала. В его взгляде было нечто неотразимое, он был полон такой нежности, такой доброты, что она забыла обо всем: о том, что она замужем за Аланом, а Бернар женат на Николь, о том, что она его не любит, но, кто знает, может, никто никогда не был ей ближе, чем он в это мгновение. Ей казалось, что она не вынесет любого замечания Алана на сей счет, ведь он мог все это видеть, однако она точно знала, что он ничего не заметил. Для него все случившееся было бы столь неприемлемым, что провидение должно было пощадить его.
«Я начинаю верить в судьбу», — подумала она и улыбнулась.
— Вот ты где! А я повсюду тебя ищу, — сказал Алан. — Представьте себе, я встретил здесь старого приятеля, с которым учился живописи в университете. Он живет в Париже. Мне захотелось поработать с ним, как в былые времена.
— Ты рисуешь? — она не поверила своим ушам.
— В восемнадцать лет я этим очень увлекался. И потом, чем не занятие? Квартиру мы обставили, и я не знаю, куда себя деть, ведь ничего путного я делать не умею.
Сарказма в его словах почти не было, скорее, в них слышалось воодушевление.
— Не волнуйся, — продолжал он и прижал ее к себе. — Я не попрошу тебя смешивать мне краски. Ты будешь встречаться со старыми друзьями или, лучше, гулять одна, ведь…
— …у тебя есть талант?
«А вдруг это мое спасение? — подумала она. — Вдруг и вправду он заинтересуется чем-либо, кроме себя самого и меня?» В то же время ей стало стыдно оттого, что она беспокоится лишь о себе.
— Нет, не думаю. Но я умею прилично рисовать. Завтра же и начну. Займу под мастерскую самую дальнюю, пустующую комнату.
— Но там совсем темно.
— Ну и что? Я ведь не умею рисовать то, что вижу своими глазами, — сказал он и рассмеялся. — Пошлю свое первое произведение матери, она покажет его нашему психиатру, пусть позабавится.
Она в нерешительности смотрела на него.
— Ты что, недовольна? А я-то думал, ты хочешь, чтобы я чем-нибудь занялся.
— Напротив, я рада, — сказала она. — Тебе это будет весьма кстати.
Порой казалось, что он видит в ней свою мать. Тогда она и в самом деле начинала говорить тоном свекрови.
— Как дела?
Она приоткрыла дверь и просунула голову в щель. Алан упорно не менял своих безукоризненно скроенных темно-синих костюмов, даже рисовал и то в них. Он с отвращением воспринял советы Северина, которому представлялось, что художнику скорее подходят вязаный свитер и велюровые брюки. Дальняя комната мало чем напоминала мастерскую художника. Правда, в ней стоял мольберт, стол, покрытый аккуратными рядами тюбиков с краской, на стеллажах лежало несколько недавно натянутых на рамы холстов, а посреди комнаты на мягком стуле сидел рассеянно куривший хорошо одетый молодой человек. Можно было подумать, что он ждет, когда придет художник. Тем не менее, вот уже две недели Алан проводил в своей комнатушке долгие часы и выходил из нее безукоризненно чистым, без тени усталости, в великолепном настроении. Жозе была в полном недоумении, не знала, воспринимать ли ей все это серьезно, но, так или иначе, четыре часа ежедневной свободы что-нибудь да значили.
— Все в порядке. Чем ты занималась?
— Ничем. Гуляла.
Она говорила правду. После завтрака она отправлялась на машине в город, медленно проезжала по улицам, останавливалась там, где ей хотелось. Особенно она любила один небольшой сквер, в нем стояло какое-то удивительно живописное дерево, и она проводила там час-другой, не выходя из машины, смотрела на редких прохожих, на то, как в оголенных зимой ветвях гулял ветер. Она мечтала, закуривала сигарету, иногда слушала радио, замирала, полная блаженного покоя. Она не осмеливалась говорить об этом Алану, чтобы он не приревновал ее к этому скверику сильней, чем к мужчине. А ей никто не был нужен. Потом она тихо ехала дальше, куда глаза глядят. Когда вечерело, ее мало-помалу начинало тянуть домой, к Алану, и, возвращаясь, она испытывала подобие облегчения, будто муж был единственной нитью, связывающей ее с действительностью. Видеть сны, мечтать… Ей хотелось бы прожить жизнь на берегу, не отрывая глаз от моря, или в сельском доме, вдыхая запахи трав, или возле этого сквера, жить в уединении, не переставая мечтать, лишь умом осознавая течение времени.
— Когда же ты мне что-нибудь покажешь?
— Может быть, через неделю. Что ты смеешься?
— Ты всегда выглядишь как на светском приеме. А я слышала, что художники постоянно воюют с красками.
— В первый раз слышу французский глагол «воевать» в этом значении. Ты права, терпеть не могут пачкать руки, и такая мания для художника — сущая мука. Выпить не хочешь?
— Хочу. Пока ты будешь счищать киноварь со своего указательного пальца, я приготовлю тебе бокал сухого мартини. Как заботливая, безупречная жена художника…
— Мне бы хотелось, чтобы ты для меня позировала.
Она притворилась, что не слышит, и быстро прикрыла дверь. Позже он так и не повторил своей просьбы. Занявшись живописью, он стал пить меньше, и казалось, что он старается поменять свои гостиничные привычки.
— Где ты гуляла?
— Колесила по улицам. Выпила чашку чаю в кафе на маленькой площади возле Орлеанских ворот.
— Ты была одна?
— Да.
Алан улыбался. Она строго посмотрела на него. Он тихо засмеялся.
— Ты, наверное, мне не веришь.
— Верю, верю.
Она чуть было не спросила почему, но сдержалась. В самом деле ее удивляло, что он задает мало вопросов. Она поднялась.
— Я рада. Рада тому, что ты мне веришь.
Она сказала это тихим, вкрадчивым голосом. Он вдруг покраснел и заговорил на высоких тонах.
— Ты рада, что я проявляю меньше болезненной ревности, рада, что моя голова теперь лучше варит, ты рада, что я наконец чем-то занялся, как и всякий мужчина, достойный этого звания, хотя все мои занятия и состоят в том, чтобы пачкать холсты, не так ли?
Она упала в кресло.
— «Наконец-то мой муженек стал как все, он оставляет меня в покое на целых четыре часа», — вот что ты думаешь. «Он пачкает холсты, которых иные талантливые люди и купить-то не могут, ну и пусть себе, зато мне хорошо». Ведь именно это у тебя на уме?
— Я рада видеть, что у тебя наконец появились обычные человеческие заботы. Во всяком случае, не ты один пачкаешь холсты, даже если это и так.
— Это не совсем так. Я способен на большее. По крайней мере, то, что я делаю, не хуже того, что делаешь ты: часами разглядываешь из машины сквер.
— Я тебя не упрекаю, — сказала она и запнулась. — Но как ты узнал о том, что я… о сквере!
— Я за тобой следил. А как ты думала!
Жозе подавленно молчала. Она не была разгневана, скорее, она ощутила леденящее душу спокойствие. Жизнь шла по-старому.
— Ты что же, устроил за мной слежку? И каждый божий день за мной следили?
Она громко рассмеялась. Алан побледнел как смерть. Он схватил Жозе за руку, потащил за собой, а она до слез хохотала.

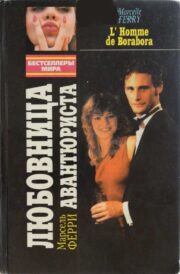
"Сказочные облака" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сказочные облака". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сказочные облака" друзьям в соцсетях.