«Думает, что ее душа умерла, но это неправда. Она просто замерзла».
Грейс встала и подошла к окну. Митч наблюдал за ней: грациозная походка танцовщицы, плавные движения ног. Пока он был копом, а она – беглянкой, приходилось сдерживать свои чувства. Но теперь все кончено и он больше не мог молчать.
Желание оглушило его как удар по голове.
«Я люблю ее. Я хочу ее. Я могу сделать ее счастливой».
– Что?
Грейс повернулась и осуждающе уставилась на него.
Митч покраснел. Неужели он высказался вслух? Скорее всего.
Он улегся повыше на подушках.
– Я влюблен в тебя, Грейс. Прости, если это все усложняет. Но я ничего не могу с собой поделать.
Лицо Грейс смягчилось. Что ни говори, а она не могла быть равнодушной к Митчу. Он рисковал жизнью, чтобы ее спасти. У нее не было причин сердиться на него. Но любовь? Нет, она не могла снова любить. Особенно после Ленни. Любовь – фантазия. Любви не существует.
– Думаю, нам нужно пожениться, – продолжал Митч.
Грейс рассмеялась и покачала головой:
– Пожениться?
– Почему бы нет?
«Почему нет?» Грейс подумала о Ленни. Об их чудесной свадьбе в Нантакете, своем счастье юной жены, надеждах и мечтах. Они не просто раздавлены. Рассеяны по ветру. Исчезли вместе с доверчивой, счастливой девчонкой, какой она была когда-то.
Ближе к ночи Ленни будет мертв.
Выйти замуж для нее равно вероятности слетать на Луну.
– Я больше никогда не выйду замуж, Митч. Никогда.
Она сказала то, что думала. И Митч ее услышал.
– Я уезжаю.
Сердце его сжалось от боли.
– Уезжаешь? – в панике переспросил он. – Из города?
– Из страны.
– Нет! Ты не можешь!
– Я должна.
– Но почему? Куда ты отправишься?
Грейс подалась вперед и поцеловала его. Всего один раз. В губы. Короткий поцелуй, в котором не было ничего чувственного.
Нежный. Почти материнский.
И Митч Коннорс едва не заплакал.
– Сама не знаю. Куда-нибудь в уединенное, тихое место. Подальше отсюда. Туда, где я могу жить скромно и в мире с собой.
– Ты можешь жить скромно и со мной.
Он сжал ее лицо ладонями, словно умоляя послушать его, любить его, верить, что он ее любит.
– Я сделаю все как пожелаешь. Любишь скромность? Тебе следовало бы видеть мою квартиру. Она настолько скромна, что у меня забрали мебель за неплатеж.
Грейс невольно улыбнулась. Митч ожил:
– Тебе по душе такое предложение? Черт, если ты поклонница скромности, я – тот, кто тебе нужен. Я даже могу разориться вчистую. Холодная пицца на завтрак – пожалуйста! Приложив минимум усилий, я, возможно, сумею заставить их отключить электричество. Мы можем сидеть в темноте, под одеялом и петь дуэтом.
– Перестань! – хихикнула Грейс.
Митч поднес к губам ее руку, целуя каждый пальчик.
– Вот что: я забуду о свадьбе. Если ты забудешь об отъезде из страны. Только скажи… что поужинаешь со мной, когда меня выпустят отсюда.
Грейс поколебалась.
– Брось! Один вшивый ужин. Ты должна мне хотя бы это.
И верно. Она у него в долгу.
– Хорошо. Один ужин. Но большего я обещать не могу.
Глава 40
Ленни Брукштайн смотрел на ремни, которыми его пристегнут, и ощущал, как все внутри разжижается от страха. Он твердил себе, что боится не самой смерти, а того, что вынужден умирать по чьей-то воле. Но теперь, когда его привели сюда, понял, как заблуждался.
«Не хочу умирать! Хочу жить!»
– Нет, – запаниковал он, пытаясь пятиться к выходу. – Я… я не могу это сделать. Помогите мне!
Сильные молодые руки схватили его и удержали.
– Полегче!
Он с трудом овладел собой. Комната была чистой, белой и пахла дезинфекцией. Как в больнице. Трое находившихся в ней мужчин походили на докторов, в таких же голубых костюмах, масках и прозрачных пластиковых перчатках.
После всех этих лет борьбы смерть пришла за ним. Он бы подал апелляцию, будь хоть малейшая надежда на успех, но Ленни был достаточно проницателен и слишком горд, чтобы продолжать игру, в которой не мог выиграть. Кроме того, что стоят лишних десять лет, проведенных в тюрьме. Он пробыл здесь всего несколько недель и уже потерял десять фунтов. Еда, которой здесь кормили, не годилась и для собак.
Двое докторов стали помогать ему взобраться на каталку. Ленни рассерженно вырвался.
– Я сам.
Он лег на каталку. Доктора пристегнули ремни. Брукштайн со стыдом осознал, что его ноги трясутся. Когда-то он управлял деловой империей, стоившей больше валового национального продукта некоторых стран. Теперь перестал быть хозяином собственного тела.
Он повернул голову и увидел тюремного раввина, неловко переминавшегося в углу комнаты.
– Что он здесь делает? Я же сказал, не хочу никого видеть!
Рабби выступил вперед:
– Через минуту вам введут снотворное. Я хотел дать вам шанс помолиться вместе со мной. Может, хотите что-то сказать?
– Нет.
– Еще не поздно покаяться. Всепрощение Бога бесконечно.
Ленни закрыл глаза.
– Мне нечего сказать.
Он почувствовал резкий укол в вену, и на секунду ужас снова охватил его. Ленни подавился рвотным спазмом. Но его желудок был пуст. И мочевой пузырь тоже. Слава Богу.
Через несколько минут снотворное начало действовать. Сердце постепенно замедляло биение. Теплое сонное облако спустилось откуда-то сверху.
Перед сомкнутыми веками вдруг встала мать в единственном праздничном платье, которое у нее было. Тонком, с цветочным рисунком. Она танцевала по кухне. А его отец, как всегда, был пьян и орал на нее:
– Рейчел, иди сюда!
Потом он ввалился на кухню и ударил мать, и Ленни захотелось его убить.
Он вспомнил бал в «Кворуме». Шел 1998-й, и он был недосягаем. Бог, наблюдающий сверху, как простые смертные с Уолл-стрит толкаются, стараясь подобраться поближе, коснуться его одежды, услышать, что он говорит. Жаль, матери не было там.
Он вспомнил Грейс, ее невинное доверчивое лицо, великолепное тело, бывшее когда-то его усладой. Она что-то певуче говорила ему сладким, детским голоском:
– Не хочу детей, Ленни. Я и так вполне счастлива. Мы ничего не теряем.
Он открыл рот, чтобы сказать о своей любви и о том, что дети и ему не нужны, но тут ее лицо изменилось, стало старым, злым и печальным. Она наводила на него пистолет, и не просто наводила, а стреляла, снова, снова и снова, и Джон Мерривейл кричал «нет», но выстрелы все гремели…
Он на яхте, усталый, еще не успевший выпустить их рук топор. Попытался встать, но продолжал скользить: палуба была залита кровью и водой, потому что шторм продолжался. Судно швыряло в разные стороны, яростно раскачивало, и он был уверен, что упадет за борт.
Но потом глянул в небо – откуда-то появился вертолет, боровшийся с ветром подобно гигантскому насекомому. Грейдон опустил лестницу, и Ленни поднимался, отчаянно цепляясь за перекладины, все выше и выше, в небеса, и Грейдон уже куда-то пропал, но мать снова была здесь:
– Давай, Лен, ты можешь сделать это, дорогой. Можешь сделать все, что пожелаешь…
– Я иду, ма! Я иду! Подожди меня! – крикнул он, и она обняла его, и он в жизни своей не был более счастлив, чем в эту минуту.
Рабби взглянул на докторов:
– Это конец?
– Конец, – кивнул один. – Он ушел.
– Несправедливо, верно? – вставил другой. – Чтобы такой бессердечный мясник умер с улыбкой на лице? Он должен был хорошенько помучиться перед смертью.
Рабби грустно покачал головой и молча вышел.
Эпилог
Грейс вышла из больницы и направилась вниз по улице. Сегодня, в солнечном сиянии, Нью-Йорк казался самым красивым на свете городом, полным жизни и энергии. На улицах было полно народу, спешившего жить. Все это было и знакомо и ново, словно сон, который она видела много раз.
Она жива. Свободна.
Умом Грейс понимала, что одно это должно сделать ее счастливой.
Сможет ли она когда-нибудь почувствовать себя счастливой?
Оглянувшись еще раз на больницу, она с нежностью подумала о Митче Коннорсе. Митч – хороший человек. Добрый. Грейс с самого начала это чувствовала.
«В другой жизни, в другом сне я могла бы полюбить его».
Но шанс улетучился, как перышко на ветру.
Она знала, что не вернется.
Уедет за границу? Вероятно. Или просто растворится в толпе. Как делала раньше. Исчезнет в комфортной многолюдности города.
Свернув за угол, Грейс Брукштайн зашагала к метро.
Толпа на тротуаре расступилась и вновь сомкнулась, приняв ее в свое лоно.
Еще мгновение, и она исчезла из виду.

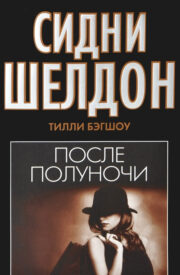
"Сидни Шелдон. После полуночи" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сидни Шелдон. После полуночи". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сидни Шелдон. После полуночи" друзьям в соцсетях.