Мы до сих пор своей мечте не изменили.
Во всех наших разговорах о будущем Лиз, по правде говоря, никогда не парилась, каким именно бизнесом ей заняться. Ей просто хотелось, чтоб он у нее был (свой!) и чтобы она была хозяйкой. Я же всегда знала: хочу собственную кондитерскую – конфеты, шоколад, тортики и круассаны всякие…
Сколько себя помню, я колдую на кухне: глазирую торты шоколадом или экспериментирую с выпечкой. Папа всегда шутил, что мне от него ни за что не спрятаться – устойчивый, чуть сладковатый запах шоколада, которым я насквозь пропахла, выдаст меня за милю. Ну, я-то знаю, что шоколад у меня тогда из пор сочился. Слов нет, как я радовалась, что у моей лучшей подруги мечта становится явью. На той мысли, что собственная моя мечта бог знает насколько откладывается в долгий ящик, я старалась не зацикливаться.
Переехав обратно домой, я скучала по Лиз, не видя ее каждый день, грустила оттого, что с моими планами на будущее придется подождать, но никакая душевная боль не сравнится с той, что мне предстояло испытать в день моего совершеннолетия[21]. Все мои дружки-подружки отмечали день, когда им исполнялось по двадцати одному годку, выпивая все имевшееся в меню спиртное, сидя на полу ресторанного туалета, распевая песни под музыку, доносящуюся из динамиков, а потом, уже на пути домой, свешиваясь из пассажирских окошек авто и вопя: «Я сегодня пьяная, уроды!» Не вкусив всех прелестей превращения во взрослого человека, я торчала в больнице, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не врезать прямо по лицу медсестре, которая то и дело твердила, что время для эпидуральной анестезии для меня еще не наступило.
Именно там и тогда я решила, что когда-нибудь стану консультантом по схваткам и родам. Буду стоять возле каждой одинокой роженицы и всякий раз, когда сестра, или врач, или черт с рогами, пусть даже и муж этой женщины, произнесет какую-нибудь глупость вроде: «Просто продышитесь через боль», то моей заботой будет ухватить их за детородные органы и выжимать из них сок до тех пор, пока не скрючатся в позе зародыша и маму звать не станут. А я тогда скажу: «Просто продышись через боль, идиот!» Только представьте себе новоявленную мамашу, у которой только-только вырезали из живота кровавый и липкий комочек в восемь фунтов и одну унцию весом, а она требует от своего отца достать из собранной накануне ночью вещевой сумки бутылку водки, потому как «морфий и водка, похоже, самый улетный способ отметить рождение моего первенца»… Любой, кто бросит на нее дурной взгляд, пусть сам попробует все это пережить.
Тут, я полагаю, повествование нужно ускорить.
Следующие четыре года прошли в трудах до полного изнеможения: я старалась скопить денег и отложить на свой будущий бизнес, попутно поднимая сына на ноги и чуть не каждый день уговаривая себя не продавать его цыганам.
Через какое-то время поиск господина, раздавившего вишенку моей невинности, ушел на задний план. Мечты остались на обочине, а всю дорогу заняла суровая жизнь. Это не значит, что я вовсе перестала о нем думать: не могла не вспоминать всякий раз, когда смотрела на сына. Все уверяли, что Гэвин – вылитая я. И мне кажется, в какой-то мере так оно и есть. У него мой нос, мои губы, мои ямочки на щеках и моя осанка. А вот глаза – совсем другое дело. Каждый божий день, стоило мне заглянуть в хрустальной синевы озера глаз моего сына, как я видела отражение его отца. Видела, как характерно морщинились уголки его глаз, когда он смеялся над чем-то, мною сказанным. Замечала, как искрился его взгляд, когда он вдохновенно рассказывал мне что-то забавное. И, конечно, я тонула в бездне искренности этого взгляда – точной копии другого, которым смотрел на меня он, когда в ту ночь отводил пальцами непослушные прядки с моих глаз. Я гадала, где он, чем занят и по-прежнему ли «Смертельное влечение» – один из самых любимых его фильмов. То и дело меня пронзало жало вины, что этот человек никогда не увидит своего сына. Хотя, Бог свидетель, меня нельзя обвинить в том, что я не пыталась устроить их свидание. Увы, большего сделать я не могла. Единственный способ найти незнакомого парня, который я не попробовала, так это дать в газету объявление типа: «Эй, белый свет! Значит, единственный раз на студенческой пирушке я повела себя как женщина легкого поведения, позволив незнакомцу залезть туда, куда до того ни один мужчина не добирался, и теперь у меня есть сын. Не будете ли вы столь любезны помочь мне отыскать папашу моего малыша?»
За эти годы Джим стал мне настоящим другом и неотъемлемой частью моей жизни, как и жизни Лиз. С ним по телефону я болтала, наверное, не меньше, чем с ней. Даже напрягаться не надо, чтобы понять: оба они стали крестными Гэвина. Это они испортили мальчика, и я с удовольствием валила на Лиз всю вину за то, что у этого сорванца срывалось с языка. Не думаю, чтоб кто-то вопил громче, чем я, когда узнала, что Джим предложил Лиз выйти за него замуж и что они собираются перебраться в Батлер, поближе к ее родственникам и ко мне. Как только они переехали, Лиз принялась (и несколько лет продолжала) без устали работать и просчитывать все возможности осуществления крепкого бизнес-плана. Несколько месяцев назад она сообщила мне, что наконец-то определила, что́ бы ей хотелось продавать (что именно, она говорить не хотела, пока сама не убедится, что сумеет). После того телефонного разговора если я когда и видела Лиз, то лишь мельком, когда та летела с одной встречи на другую. Она непрестанно говорила по телефону с риелторами и банками, носилась взад-вперед к своему адвокату подписывать документы и ежедневно наведывалась в окружной суд, чтобы заранее заполнить все формы, необходимые для ведения малого предприятия. Я без особой охоты согласилась (во время ночного девичника, выпив на пять крепких мартини больше нормы), что временно буду помогать ей в качестве продавца. По-моему, произнесла я в точности такие слова: «Лиз, я тебя люблю. И водку люблю. Дай, я тебя обниму, сожму в объятьях и стану звать Лиздка». Лиз сочла, что это означало «да».
О работе Лиз сказала мне только одно: что это торговля и что, занимаясь ею, я «оттянусь вовсю». Опыт стояния за стойкой бара позволял мне считать себя офигительно продвинутым менеджером по продажам.
«Что? Говоришь, жена бросила тебя ради вечера в книжном клубе со своей подружкой? На-ка, попробуй-ка эту бутылочку текилы».
«Да что ты говоришь, собака бывшей жены соседа твоего лучшего друга попала под машину?! А ну-ка, промочи глотку виски, он свое дело знает».
Лиз нравилось даже самые обыденные вещи наполнять зудом ожидания неведомого, и она намеренно скрывала (сюрприз готовила!), чем именно мне предстоит торговать. А поскольку я в тот момент была добродушна и немного навеселе, то согласилась бы даже продавать наборы клистиров для самообслуживания, и Лиз это знала. Я тогда почти каждую ночь работала в баре. Уложив Гэвина в кроватку, мчалась на заработки. Выпекая на заказ протвишок-другой ассорти из сладостей и всякой выпечки для вечеринок, я немного приторговывала по всему городку, зато всегда могла себе позволить пустить в ход «лишние» наличные. Да и Лиз помочь могла запросто, если только «подработка» не отнимет у меня слишком много времени от общения с Гэвином.
Сегодняшний вечер должен стать для меня, так сказать, «ориентировкой». У Лиз на буксире мне предстояло отправиться на одно из ее мероприятий и толком узнать, что у нее за бизнес. Джим согласился взять Гэвина на ночь, а потому я предложила себя в качестве шофера, чтобы подвезти сына, заехав за Лиз.
Когда я подъехала, они уже ждали нас возле дома. Лиз тащила за собой чемоданище, больше которого я в жизни не видела, и отпихнула руку Джима, когда тот попытался ей помочь загрузить его ко мне в багажник. Мне стоило бы обратить внимание на понимающую усмешку Джима, когда мы, словно по отмашке громадного красного флага, рванули вперед. В свое оправдание могу только сказать, что я не догадывалась о многом. Предполагала, что мы будем торговать чем-то вроде свечей, пластиковой посуды или разномастной косметики – всем тем, что Лиз любила. Стоило бы разузнать побольше. Или повнимательнее отнестись к надписи «будуарные забавы», выведенной изящными розовыми буквами на одной стороне чемоданища.
4. Горячий шоколад
– Это был мой самый любимый дядя… Добрая душа был наш дядя Вилли. Как мне его будет не хватать.
Я закатил глаза и допил остатки пива, слушая, как мой лучший друг Дрю, сидевший рядом за стойкой бара, старался охмурить одну из официанток.
– У-у-у, бедняжечка. И что? Печаль тебя томит? – сочувствовала ему та, охотно проглотив вранье и с удовольствием приглаживая толстыми пальчиками его шевелюру.
– Жить не хочется. Горю от печали фактически.
– Что ты сказал? Музыка орет, я не расслышала, – прокричала официантка.
Я хмыкнул и через ее голову глянул на Дрю, ловя его взгляд и всем своим видом давая ясно понять: «Ушам не верю, что ты мелешь?»
Она его в щечку чмокнула, он ее легонько по заднице шлепнул – и разбежались каждый в свою сторону. Дрю крутанулся на высоком сиденье, обратившись к бару лицом, и глотнул пивка.
– Дядюшка твой, Вилли, – не удержавшись, напомнил я Дрю, – два года как умер. И ты его терпеть не мог.
Он с маху грохнул стакан на стойку и повернулся ко мне лицом.
– Картер, ты разве забыл фирменные приемчики из «Незваных гостей»?[22] Печаль – это самое сильнодействующее в природе возбуждающее средство, дружок.
Дрю был моим лучшим другом с детского сада, и все ж порой его мудрые суждения меня поражали. Тот факт, что он к тому же был другом надежным и сидел здесь в тяжкую для меня минуту, помогал мне смириться с его глупостью и не обращать внимания на то, что вел он себя по большей части несносно, с замашками шлюхи мужского рода.
Дрю взмахом руки подозвал бармена и заказал две текилы. Если так и дальше пойдет, то я домой на карачках добираться буду. Внутренние органы у меня уже отказывались принимать спиртное, бежавшее по артериям вместо крови, и я отлично разбирал, как маленький человечек, сидевший в моем мозгу, нашептывал: «Остудись, малыш, остудись» – и делал все, чтоб у меня в глазах плыло.

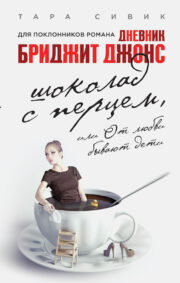
"Шоколад с перцем, или От любви бывают дети" отзывы
Отзывы читателей о книге "Шоколад с перцем, или От любви бывают дети". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Шоколад с перцем, или От любви бывают дети" друзьям в соцсетях.