Они ничего не говорили друг другу — в этом не было нужды. Артур прижал жену к себе, тяжело дыша ей в шею и ощущая тонкий аромат духов. Они долго стояли так, как никогда раньше, чувствуя силу своей любви. Потом Элен отстранилась, посмотрела в сияющие глаза Артура и почти рыдая прошептала:
— Я больше никогда не буду себя так вести.
Артур взглянул на нее.
— Я знаю, — ответил он серьезно, — потому что я никогда этого не допущу.
Рамон помахал рукой вслед автомобилю, увозившему Федерику по песчаной дороге в аэропорт Сантьяго, оставляя за собой облако пыли и радостное ощущение того, что все завершилось благополучно. Он еще долго улыбался ей вслед, после того как машина скрылась из виду, вспоминая душераздирающую сцену пятнадцать лет назад, когда она со слезами прощалась с ним, не зная, удастся ли им когда-нибудь встретиться снова. Но сейчас она стала взрослой женщиной и сама могла решать, когда возвращаться. Он был горд ею и благодарен за то, что они обнялись уже не только как отец и дочь, но и как друзья. Он передал ей свою рукопись для Элен и сказал, что она тоже может почитать ее в самолете. Федерика тепло попрощалась со стариками, с Рамонсито и, наконец, с Хэлом. Но ее слезы уже были не слезами печали, а слезами радости, потому что все они вновь обрели друг друга. Да и, как говорила Мариана, «Чили — это не на Луне», так что они сказали напоследок «до свидания», но не «прощай».
Затем Рамон отправился на кладбище, чтобы поговорить с Эстеллой. Рамонсито не поехал с ним, поскольку увлекся напряженным шахматным сражением с Хэлом.
— Скажи ей, что я сейчас с братом, — гордо сказал он, и Рамон улыбнулся и кивнул. Шахматы были тем языком, который они оба хорошо понимали.
Рамон припарковал машину в тени и направился к могиле Эстеллы сквозь густые тени деревьев. Был ранний вечер, и густые ароматы трав и цветов смешивались в воздухе с неуловимым ощущением смерти, часто навещающим безмятежную вершину холма. Он останавливался у могил и читал высеченные на камне слова, что вошло у него уже в привычку. Однажды он снова появится здесь, чтобы уже никогда не возвратиться обратно. Неизбежность смерти не страшила его, наоборот, она давала ему ощущение умиротворенности. В конце концов, в этом неопределенном мире это было единственной вещью, в которой каждый мог быть абсолютно уверен.
Приблизившись к высокой зеленой сосне, он увидел Пабло Регу, который спал у надгробья, уткнувшись подбородком в грудь с надвинутой на глаза шляпой. Он приветствовал его, чтобы разбудить, но Пабло не шевелился, оставаясь недвижимым и безжизненным. Рамон как-то сразу понял, что Пабло совершил свое последнее путешествие, и наклонился, чтобы проверить пульс старика и окончательно убедиться в своих предположениях. Все так и оказалось: его душа уже покинула немощное тело и присоединилась ко всем тем, кто ушел раньше него, в том числе и к Освальдо Гарсия Сегундо, и, конечно, к Эстелле. При этой мысли Рамон почувствовал острый приступ зависти. Он был уже немолод и одинок. Его сыновья, безусловно, найдут свою любовь, как и он когда-то нашел ее, но сам Рамон был уже слишком стар для новой любви. Эстелла приручила его сердце бродяги, и оно уже навечно будет принадлежать только ей.
Ему остается лишь провести остаток своей жизни в воспоминаниях о настоящей любви, которую даровала ему судьба.
Федерика смотрела на величественную панораму раскинувшихся внизу Анд, когда самолет с шумом, потрясшим ее до мозга костей, набирал высоту. Ей очень хотелось остаться. Так же, как и Хэл, она ощущала свою принадлежность к Чили, это было у нее в крови. Но она страстно хотела увидеть Сэма, и это желание почти что душило ее. Она сравнивала детскую влюбленность далекого прошлого со зрелой любовью, которую испытывала к нему сейчас, и пришла к выводу, что ее брак с Торквиллом стал важным жизненным уроком. Без него она продолжала бы поиски отца в руках другого мужчины, такого же, как Торквилл, и никогда бы не поняла, что является жертвой самой себя. Сэм освободил ее от этого наваждения, а она даже не поблагодарила его.
Когда в проходе появилась стюардесса с газетами, Федерика взяла одну из них, чтобы просмотреть, хотя и не могла ничего прочитать на испанском. Открыв ее, она взглянула на разворот, чтобы отвлечься от мучительных раздумий о Сэме, и увидела фотографию замороженного тела молодой девушки инка, найденной в перуанских Андах. Она затаила дыхание и в изумлении выпрямилась в кресле.
Повернувшись к соседу по креслу, она спросила, говорит ли тот на английском. Получив положительный ответ, она попросила его перевести ей текст, сопровождавший эту фотографию. Он был рад завязать разговор с красивой попутчицей и начал чтение вслух.
Федерика слушала, прикусив губу. Это оказалась мумия молодой женщины, сохранившаяся в горном холоде и пролежавшая там в течение пятисот лет. На ней было фантастического качества и красоты одеяние, сделанное из шерсти, волосы украшали драгоценные кристаллы, а на голове сохранились остатки плюмажа из белых перьев. Предполагалось, что она была принесена в жертву богам. Когда мужчина вернул ей газету, она стала рассматривать лицо девушки, вспоминая финальные моменты давнишнего рассказа своего отца, пронизанные ужасом смерти, расставания и загубленной любви.
«Она была одета в изысканные узорчатые шерстяные одежды, ее волосы были заплетены в косу и украшены сотней сверкающих кристаллов. К груди она прижимала деревянную шкатулку. На ее голове развевался огромный плюмаж из белых перьев, которые должны были унести ее в иной мир, отпугивая по пути демонов. Ванчуко не мог спасти ее».
После нескольких попыток завязать беседу, мужчина понял, что она не намерена отвечать, и разочарованно вернулся к своей книге. Федерика сидела недвижимо, уставившись в лицо Топакуай так, будто своими глазами увидела воскресение. Все эти годы она верила в легенду, несмотря на голос рассудка, говорившего ей, что это всего лишь миф. Она улыбнулась себе. Кто знает, может, и шкатулка с бабочкой в действительности окажется волшебной.
Сэм встал очень рано, испытывая томившее его душевное беспокойство, и отправился с собаками бродить по скалам. Он уже замечал первые признаки весны в набухших почках, наполнявших лес скрытой вибрацией, распространявшейся по ветвям, будто зеленый дым. Но ничто не могло помочь ему избавиться от охватившего уныния. Он потуже закутался в пальто, но холод шел и откуда-то изнутри, заставляя его тело дрожать. От Федерики не было никаких вестей с того момента, как она уехала неделю назад, и его охватило ужасное предчувствие, что она может уже никогда не вернуться. В конце концов, она сама сказала, что здесь ее ничто не держит. Сила этих слов никак не уменьшалась от той периодичности, с которой он их вспоминал, и продолжала еще больше угнетать его.
До сих пор он так и не придумал, о чем писать. Прошли уже в буквальном смысле годы с тех пор, как он оставил свою работу в Лондоне, чтобы по совету Нуньо использовать свои творческие способности, но его творчество оказалось малопродуктивным. Он пытался пару раз начать роман, но его разум постоянно был занят Федерикой, что привело лишь к появлению мрачных поэм о неразделенной любви и смерти. Ему не оставалось ничего другого, как забросить писательство и углубиться в чтение книг из библиотеки Нуньо. Это было все же лучше, чем отдавать себя на растерзание душевным страданиям.
Прогуливаясь в одиночестве среди скал в робких лучах рассвета, он думал о том, как будет жить, если Федерика не вернется. Нужно будет набраться сил и посмотреть в лицо своему будущему. Он не мог позволить себе бесконечно барахтаться в сожалении к собственной судьбе. В конечном итоге разве не он учил ее в своих посланиях не сдаваться на волю обстоятельств? Он оказался в роли врача, самого не верящего в прописываемые им лекарства. Надо взять себя в руки и начать писать, приобрести собственный коттедж и, возможно, собаку и свинку, и затем понемногу выбираться из состояния добровольной ссылки, в которую он себя загнал.
Путешествие Федерики не казалось бы таким долгим и томительным, если бы не охватившее ее лихорадочное нетерпение, заставлявшее грудь сжиматься от тревоги, а голову болеть в попытках изменить обстоятельства, повлиять на которые она была не в силах. Прежде чем приземлиться, самолет вынужден был кружить над аэропортом Хитроу около двадцати минут. Она чувствовала подкатывающую тошноту, как от беспокойства, так и от бесконечных разворотов воздушного лайнера, а уже в подземке, по пути на вокзал, ее одолевал приступ икоты. Было холодно, и моросил дождь, словом, стояла типичная для Лондона весенняя погода. Сев на поезд, она устроилась в кресле у окна и погрузилась в созерцание монотонных городских пейзажей. На мгновение закрыв глаза, она открыла их только через несколько часов, обнаружив за стеклом хорошо знакомые картины сельской местности Корнуолла.
Глядя на эти зеленеющие поля, она вспоминала свои долгие прогулки с Сэмом и думала о том, что же скажет ему при встрече. Ей оставалось только надеяться, что он уже вернулся из Шотландии, поскольку она понимала, что сойдет с ума от отчаяния, если не застанет его дома. Она стала молча прокручивать в голове их предстоящий разговор. «Сэм, я должна тебе что-то сказать… нет, это слишком грубо… Сэм, я люблю тебя… нет, я не могу это сказать, не могу… Сэм, я поняла, что это были записки от тебя, и вернулась специально… нет, нет, это ужасно… Сэм, я не могу поверить, что мне понадобилось столько времени, чтобы понять, что я люблю тебя… нет, не могу. О Боже, я не способна выражаться в подобной манере. — Она вздохнула. — Я просто не знаю, что собираюсь ему сказать».
Пока поезд утюжил равнины Корнуолла, Федерика наблюдала за коровами, пасшимися на полях, за очаровательными белыми домиками и казавшимися игрушечными фермами и думала о красоте этих мест, которую не портили даже серое небо и непрерывный дождь. Она стала мечтать о жизни в коттедже с Сэмом, возможно, в компании одной или двух собак, но непременно с видом на море, и улыбнулась про себя. Ее не волновало богатство или магазины на Бонд-стрит, а также перспектива лишиться шопинга на всю жизнь. У нее уже раньше все это было: бесчисленное количество сумочек и пар туфель, чтобы понять пустоту, скрывавшуюся за ними. Единственное, к чему она стремилась, это оказаться в объятиях Сэма, а остальное не имело значения.

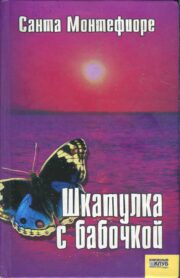
"Шкатулка с бабочкой" отзывы
Отзывы читателей о книге "Шкатулка с бабочкой". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Шкатулка с бабочкой" друзьям в соцсетях.