Здравствуй, флорентийская Божена!
На секунду остановилась, улыбнувшись чему‑то своему, и опять принялась писать, больше уже не останавливаясь.
Этот день они с Томашем собирались провести за городом.
Никола надела яркий бирюзовый комбинезон и оранжевую шапочку, оттенявшую матовую белизну ее лица. На фоне мягких тонов пушистого зимнего дня она казалась счастливым цветком. Положив в небольшую корзину бутыль домашнего вина, видимо присланную мамой, Никола спустилась к Томашу, возившемуся с машиной, и вскоре они выехали на полупустынную пригородную дорогу.
Холмы, недавно совсем темные, слегка припорошило снегом, и они мелькали в окне машины, как большие колпаки из кудрявой овечьей шерсти. По их бокам, в уютных ложбинах, были рассыпаны маленькие поселки и деревеньки — они выделялись на светлом фоне, будто вышитый по кайме красно‑коричневый орнамент.
Никола то и дело тормошила Томаша, указывая ему на какой‑нибудь пейзаж за окном. И он, снисходительно улыбаясь, делал вид, что тоже любуется, и выбирал место для пикника.
В багажнике трясся маленький бочонок с пропитанными красным вином парными кусочками медвежатины — любимым мясом Томаша — и гремели о маленькую жаровню шампуры.
Этот грохот уже начинал раздражать Николу, но тут они остановились — меж двух невысоких холмов. Пока Томаш возился с припасами, Никола взбежала по склону и огляделась вокруг. Холмы и холмы, и серая спина Томаша, успевшего уже протоптать тропинку от машины до небольшой поляны среди голых орешин, — сверху поляна напоминала дно корзины с припасами.
«И Томаш — будто внутри корзины, — подумалось ей вдруг. — Живет на дне глубокой корзины, лишь иногда глядя на мир сквозь ее прутья. И движется туда, куда переносят корзину… — Она начинала сердиться на себя, но уже не могла остановиться. — Но я ведь сейчас с ним, значит, тоже в корзине? Я?!»
Слезы брызнули из глаз Николы, и, повернувшись к Томашу спиной, она стремглав побежала вниз, прочь от него.
Она чувствовала, что слишком жестока к этому зрелому, уже привыкшему к своему превосходству над ней мужчине. Но сейчас ее почему‑то радовало такое вытравливание из сердца слишком неравной, нерадостной любви.
…Вернувшись спустя час, она застала разбросанные на снегу шампуры с еще дымящимся мясом, груду мокрых углей и Томаша, хмуро сидящего за рулем. Никола села сзади, и они, не обменявшись и словом, поехали в город.
Дома они переходили из комнаты в комнату, стараясь не встречаться глазами. Николе казалось, что если они коснутся друг друга, их ударит током.
И среди этого затянувшегося молчания она, тщательнее обычного одевшись, вышла из дома.
Она шла пешком. Ранние зимние сумерки сделали город черно‑белым. Там, где должна быть Влтава, клубился густой туман. Шпили и башни, как призраки, мелькали в серой сумятице туч.
Было то время, когда фонари еще не зажигают, но от беспокойного ощущения, что они вот‑вот оживут, уже не отделаться. И ожидание этой бесхитростной вечерней радости смешивалось в сердце Николы с еще одним чувством: она словно возвращалась домой — как маленький кораблик, унесенный случайным ветром от знакомых берегов, где его терпеливо ждут…
И когда в темноте небольшого зала, сплошь затянутого черным бархатом, вдруг вспыхнуло в пучке софита движение и заметалось в черном пространстве тело, похожее на луч звезды, щемящая боль неподвижности пронзила Николу: ей захотелось оказаться на сцене вместе с танцующим Иржи.
Глава 11
Божена покупала фрукты. Глядя, как на медной чаше старых ручных весов покачиваются огромные сливы и персики, выбранные ее рукой, она думала о письме Николы — долгожданной первой весточке от нее.
Суета последнего месяца не заглушила в ней тревожного беспокойства за сестру. Оно родилось в Божене, когда она, простившись с Николой в гулком зале международного аэропорта, полетела над горами облаков, освещенных лучами вечернего солнца, невидимого с земли.
О Томаше она почти не думала. Разве что в связи с судьбой Николы: ревновать к своей меньшенькой — это было просто немыслимо, да и ее воспоминания о Томаше становились все прохладней и отвлеченней. «Улететь в самолете — изумительный выход, исцеляющий от любовной ностальгии», — подумала она.
Воспоминания, оставшиеся у Божены от семейной жизни, напоминали ощущения от затянувшегося сытного обеда, голод после окончания которого еще не дал о себе знать.
Никола в своем письме была целомудренна, но не по‑прежнему: отведав известное Божене блюдо, она отставила его в сторону, ни словом не обмолвившись о нем. Единственным мужчиной, фигурировавшим в письме, был Иржи. Не отчаяние, не разочарование, но густой голос женской печали расслышала Божена в словах Николы. Ее сердце сжалось, но, строго говоря, такое развитие событий было триумфом ее проницательности.
А ее собственная жизнь уже катилась дальше, и теплый ветер Италии этому не мешал.
Разделавшись с организацией выставки, она могла целиком отдаться творчеству и итальянскому досугу — теперь он был частью ее самой.
Покинув их с Томашем общую мастерскую, ритм работы в которой ставил жесткие рамки ее фантазии, Божена окунулась в блаженный мир, и лишь ее прихоть и ее мастерство соперничали в нем… Весь ее жизненный и творческий опыт, словно сфокусированный в один пучок, давал великолепные результаты; Божена работала на пределе сил, не чувствуя при этом ни малейшей усталости. Ей казалось, что дух ее дедушки витает над ней в теплом воздухе Средиземноморья, и она уже с трудом представляла себе, как вернется назад в Прагу. В Прагу, которая вобрала в себя ее прошлое, но отсюда, из Флоренции, была больше похожа на огромный кованый сундук, рыться в котором интересно, но жить — невозможно.
Проводя теперь много времени на людях и наслаждаясь новизной обстоятельств и знакомств, Божена все‑таки старалась оградить свой внутренний мир от любопытных глаз. Сейчас ее занимало только одно: ее впечатления от Италии должны были воплотиться в металле и камне.
Единственное настоящее сближение за месяц ее итальянского существования произошло вскоре после приезда. Фаустина Калассо, итальянка, подошла к Божене, когда та стояла на набережной Арно, у Старого моста, следя за игрой веток, перебираемых журчащей водой.
Невысокая, сухощавая женщина лет сорока, Фаустина смотрела на мир глазами смеющегося мальчика. Коротко стриженные непослушные волосы и манера одеваться дополняли впечатление, но когда она заговорила, Божена, плененная богатством ее грудного певучего голоса, повернулась и с интересом взглянула на незнакомку. И, подмываемая желанием слышать итальянскую речь, она, не удивившись, ответила «да», когда услышала:
— Вы Божена Америги? Говорите по‑итальянски?
А потом они до вечера бродили по улицам, где на домах росли статуи, и время от времени возвращались к обмелевшей реке.
Фаустина приехала на выставку из Неаполя, где работала огранщицей в государственной мастерской. Она надеялась поработать с кем‑нибудь из приглашенных ювелиров и попробовать себя в конкурсной программе. Она заняла кучу денег, чтобы перевезти во Флоренцию все оборудование и снять что‑нибудь мало‑мальски надежное под мастерскую на время проведения выставки.
О Божене она узнала, просматривая краткие резюме в рабочем каталоге выставки. Эти незамысловатые информационные визитки составляли сами участники, прибывающие на конкурс. Божена не знала, как и что принято писать о себе в таких случаях, и соорудила несколько парадоксальный текст о своем опыте и творческих пристрастиях. Он‑то и привлек внимание Фаустины. Кроме того, в графе «Состав творческой мастерской» Божена поставила прочерк — Фаустина поняла, что это ее шанс.
Узнав Божену по фотографии в том же каталоге, она подошла к ней на набережной и, не лукавя, поведала о своих намерениях.
Прямота Фаустины и те работы, которые Божена увидела в ее импровизированной мастерской, куда они зашли уже под вечер, не оставили сомнений, и на следующий день Божена Америги заявила в жюри конкурса Фаустину Калассо как свою ассистентку.
Фаустина перевезла свой почти самодельный, но с удивительной точностью и любовью выверенный ювелирный скарб в просторную мастерскую, выделенную Божене, и теперь дни напролет они проводили бок о бок. Но, обе молчаливые и по натуре и в связи с ремеслом, они почти не разговаривали ни о чем после той первой совместной прогулки. Показывая друг другу наработанное в мастерской, они лишь соотносили время от времени свои замыслы и их же обсуждали, прогуливаясь вечерами по набережной, прежде чем разойтись по домам.
Фаустина долго не расспрашивала Божену о ее жизни и не рассказывала ничего о себе. Но в тот день, когда Божена вошла в мастерскую с большим бумажным пакетом и вывалила из него на стол огромные сизые сливы и мясистые персики, от которых поплыл по комнатам тонкий аромат, Фаустина молча вышла из мастерской и вскоре вернулась с букетом тосканских вин — пять или шесть узких горлышек торчали из корзины, как бутоны только что срезанных цветов, а сама Фаустина походила на сорванца, разорившего чей‑то цветник.
На плоских хрустальных блюдцах — прихоть Божены — появились всевозможные сыры, зелень и орехи. Разостланы на низком мраморном столе пестрые салфетки. Подоспели бокалы со звонкими боками. Затем руки ловко добавили изящные приборы, и две женщины, похожие лишь своим немногословием и раскрасневшимися от усердия щеками, уселись друг против друга и, отставив на время свое мастерство, впервые заговорили о другом.
История Фаустины, шестой дочери небогатого владельца рыбного ресторанчика, и немногословный рассказ Божены, внучки известного ювелира, никогда не задумывавшейся о деньгах и всегда казавшейся окружающим взбалмошной аристократкой, нежно переплетаясь, плавали в воздухе прозрачного итальянского дня, создавая в душах собеседниц изящный узор их рождающейся душевной близости.

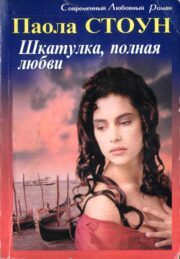
"Шкатулка, полная любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Шкатулка, полная любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Шкатулка, полная любви" друзьям в соцсетях.