Не стесняясь в волнении наблюдающего за ней Луиджи, Божена, увлеченная обстановкой, легко коснулась кончиками пальцев прохладных фарфоровых фигурок, которые, не замечая ровного шуршания часовых стрелок, предавались своему сладкому объятию, подошла к чудесной голубизны гобелену и вдруг прильнула щекой к нежному шелку. В это мгновение у Луиджи помутилось в глазах.
Он с трудом заставил себя остаться на месте, чтобы не вспугнуть Божену напором своей страсти, рвущейся наружу. Словно оживляя его недавние фантазии, Божена плавно двигалась по комнате… На ходу она подцепила из тонкостенной чаши орешек — и Луиджи слышал, как он маняще хрустнул, прежде чем растаять на ее языке. Она долго не отрывала глаз от луноподобной тарелки, что‑то ей неуловимо напомнившей, а потом, опьяненная впечатлениями, сама не замечая и не задумываясь, что делает, медленно потянула за янтарный замочек, расстегивая молнию своего мягкого шерстяного жакета, и принялась вылезать из его рукавов, наклоняя плечи то вправо, то влево. Луиджи сжал за спиной руки, наблюдая, как мягко ходят ее лопатки под тонким трикотажем светлого платья, как нежно прорисовываются под ним холмики ее позвонков. Думая о своем, Божена рассеянно оглянулась, ища, куда бы пристроить жакет, а потом чуть отошла назад и, положив его на двойное кресло, присела рядом. Но тут же, будто вспомнив о чем‑то, она встала и вопросительно взглянула на Луиджи. Тот постарался как можно спокойней улыбнуться в ответ и чуть срывающимся, больше обычного хриплым голосом оживленно предложил ей приступить к ужину.
Свечи над столом зажглись, и по голубоватой скатерти забегали теплые блики. Божена поднесла к губам старинный бокал, который Луиджи наполнил своим любимым кьянти, но вдруг, отдернув руку и немного пролив вино на скатерть, она неловко извинилась и смущенно попросила налить ей соку. Луиджи дотянулся до кувшина и, больше глядя на Божену, чем на стол, налил в ее стакан гранатовый сок.
Черный муранский стакан стал на просвет пурпурным и, чуть дрожа в руке Божены, повис над столом. Но поставив и его, Божена вдруг встала и ни слова не говоря вышла в прихожую. Луиджи вскочил со стула и, ругая себя за то, что в пылу своей страсти совершенно забыл о страхах любимой женщины, уже собирался бежать за ней, опасаясь, что Божена сейчас попросту покинет его дом… Но она уже появилась в дверях гостиной, держа в руках маленькую бархатную шкатулку.
— Я принесла перстень с собой, — тихо сказала она и, присев на прежнее место, поставила шкатулку на стол и пододвинула ее к Луиджи. Он, перехватив ее руку, на мгновение удержал ее в своей, а потом, как и Божена несколькими минутами раньше, ни слова не говоря вышел из гостиной — но не в прихожую, а в другую дверь.
В соседней комнате сначала что‑то зашуршало, потом Божена услышала звук передвинутого стула, скрип каких‑то пружин — и Луиджи вернулся, тоже держа в руках шкатулку. В отличие от Божены, он не сомневался ни в чем и торопил время: прежде чем осуществятся его мечты, ему нужно успокоить Божену и, все наконец объяснив ей, превратить устрашающую неизвестность в занятную старинную историю.
Много думая в последнее время о тех необычайных совпадениях, которые сопровождали их знакомство и так пугали Божену, Луиджи решил пойти по самому простому пути — и оказался прав. Он тоже побывал в квестуре и, воспользовавшись удостоверением репортера, легко получил доступ в хранилище. Не слишком надеясь на удачу, он все‑таки решил попытался найти там хоть что‑нибудь, связанное с делом Америго Америги, о котором узнал, подслушав исповедь Божены. И, перерыв за полдня целую кучу списанных муниципальных архивов и наглотавшись пыли, Луиджи наткнулся на старую толстую папку, которая содержала в себе подшивку протоколов благотворительных аукционов, проведенных городской администрацией с начала до середины века. Воодушевленный находкой, Луиджи, громко чихая от пыли, внимательно пересмотрел все протоколы и обнаружил‑таки в одном из них подробно описанный «перстень, проходивший по делу золотых дел мастера Америго Америги и выставленный на 30‑м благотворительном аукционе по истечении срока хранения». Этот перстень был куплен венецианкой по имени… — Луиджи вздрогнул, Сильвия Бевилаква!
Сомнений не было: перстень вместе с конфискованными как вещественное доказательство авторскими эскизами когда‑то приобретен его матерью. Посмотрев на дату, Луиджи удивился еще больше: в графе «продано» стоял год его рождения. И тогда он понял: «Так вот почему она оставила его мне! На счастье, как талисман! И наверное он был оплачен тем неизвестным, которого я мог бы назвать своим отцом…»
То, что он узнал, разумеется, взволновало Луиджи, но в то же время не оставило ни капли таинственности во всей этой запутанной истории. Если, конечно, не считать вмешательства самого Провидения, которое свело Луиджи с Боженой тем зимним утром на площади Сан‑Марко.
…И сейчас, сидя напротив Божены, Луиджи медленно открыл сначала шкатулку, принесенную ею, а затем свою. Божена, не решаясь взглянуть на то, что он делает, опустила глаза. А Луиджи достал из маминой шкатулки перстень и, положив кисть Божены на свою горячую ладонь, сначала поцеловал ее безымянный палец на левой руке, а потом, боясь, что перстень окажется не в пору, медленно стал надевать его на ее палец. Божена не поднимала глаз, но Луиджи чувствовал, как дрожит ее рука.
Надев перстень, Луиджи встал и отошел от стола. Божена открыла глаза. Она посмотрела на свою руку, и странная тень пробежала по ее лицу. Ее рот приоткрылся, скулы и бледные щеки стали пунцовыми. Будто не доверяя глазам, она прижала палец с перстнем к щеке, потом поднесла близко к лицу, отпрянула от собственной руки, вскочив из‑за стола, и вновь застыла, далеко отставив левую кисть. Не снимая перстня, она жалобно взглянула наконец на Луиджи, потом порывисто вернулась за стол, и, пододвинув к себе бокал с вином, легко коснулась лилии на руке. Цветок плавно распустился. И Божена, уже ничему не удивляясь, быстро поднесла руку к бокалу, чуть встряхнула левой кистью, будто стряхивая легчайшую цветочную пыльцу, — и из перстня в вино просыпался белоснежный порошок. В комнате было так тихо, что Луиджи услышал, как зашипело вино в бокале, хрустнули сжимающие тонкую хрустальную ножку пальцы Божены, — а потом она резко отвернулась от него и, высоко запрокинув голову, выпила содержимое бокала. В следующую секунду она вздрогнула всем телом и лишилась чувств — Луиджи едва успел подхватить ее обмякшее тело и вместе с ним опустился на пол.
Засыпав накануне их встречи в тайник перстня шипучий аспирин, он вовсе не рассчитывал напугать Божену — все это должно было лишь рассмешить ее после того, как, выслушав его рассказ и изучая его подарок, она заглянула бы в тайник.
Ужасно испугавшись ее обморока и последними словами ругая себя за неловкую шутку, Луиджи выбежал из комнаты, потом вернулся назад с графином холодной воды, растерянно поставил его прямо на ковер и, приподняв Божену, понес ее в спальню. Но как только он бережно положил ее на один из овалов кровати, она широко распахнула глаза и громко вскрикнула. А когда ее голова, придавив ладонь Луиджи, опустилась на холодную подушку, Божена вдруг облизала губы и сказала, глядя куда‑то мимо него:
— Вкус аспирина… А как он шипит!
И она засмеялась сквозь слезы, а потом, задыхаясь от жаркого шепота склонившегося над ней мужчины, то смеялась, то плакала, слушая его рассказ… А он рассказывал ей, как подслушал ее исповедь, и что‑то про Сильвию Бевилаква, прекрасную венецианку. Понимая и не понимая, она слушала любимый голос, вдыхала уже ставший для нее родным запах его кожи, волос, одежды, а потом вдруг приподнялась на локте и прервала рассказчика, закрыв его губы своими.
И страх, превратившись в крошечные колючие льдинки, начал покидать Божену, покалывая ее вздымающуюся грудь и кончики пальцев, которые заметались по тонкому платью, помогая рукам Луиджи освобождать ее тело от ставшей лишней одежды. И уже не в силах унять себя, она повернулась на бок и выгнулась навстречу рукам любимого. А он, обхватив за талию, легко приподнял ее, и их взгляды встретились в восьмиугольнике темного зеркала — но лишь на мгновение. А потом их тела в головокружительном забытьи опустились на кровать и отдались безумному вихрю ласк.
Через некоторое время подступающее блаженство обуздало порывистость движений влюбленных, сделав их ритмичными, плавно согласными. Разглаживая губами его пульсирующую горячими волнами плоть, которая от каждого ее прикосновения становилась все тверже и сильнее, Божена впитывала в себя его наслаждение и не прятала своего, отвечая на каждое движение Луиджи. Но ее лоно, обжигаемое неутолимым желанием, уже требовало продолжения, оно жаждало более глубоких касаний — и наконец она почувствовала Луиджи внутри себя, а потом оказалась поднятой в воздух. Невыносимая легкость наполнила ее — и Божена, чувствуя на своих трепещущих бедрах сильные руки Луиджи, поплыла по комнатам, запрокинув голову, а потом ощутила спиной шелковую гладь гобелена.
А еще через некоторое время, отталкиваясь друг от друга, они мешали сок и вино, обливаясь ими, и впивались с двух сторон в бархатную кожу и нежную мякоть персиков. Луиджи, опустив Божену в объятия кресел, осыпал ее грудь, впадину живота и ложбинку сомкнутых ног золотом орехов, а потом искал их губами. И Божене хотелось самой стать горьким миндалем и застыть меж его мягко сомкнутых губ. А потом их тела снова сливались в одно и кружились по комнате, ища новой точки опоры, находя ее и снова отправляясь в сладостный поиск новых ощущений… И шепотом или громко, сливаясь в объятии или расходясь по разным углам, они успели в эту ночь так много сказать друг другу, что это блаженное откровение слов значило для них не меньше, чем разговор тел. А впрочем, все это было нераздельно.
Они заснули под утро, глотая сок прохладного сна — одного на двоих. Во сне Божена все еще прижимала его ладонь к своему животу — и в такт ее мерному дыханию покачивались на нем, изредка ярко вспыхивая в свете уличного фонаря, две бриллиантовые лилии, соединенные этой зимней венецианской ночью.

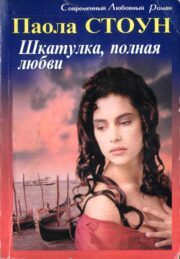
"Шкатулка, полная любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Шкатулка, полная любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Шкатулка, полная любви" друзьям в соцсетях.