Но наваждение схлынуло так же внезапно, как и пришло. Божена уже отошла от него и села на мягкий диван, посреди лежащих в беспорядке роскошных подушек.
Она стала расстегивать накидку, под которой оказалось черное ажурное платье. Томашу показалось, что длинная вуаль, спускавшаяся от лица Божены, окутала все ее тело, делая его очертания будто видимыми, но неуловимыми для глаз.
Томаш, не двигаясь с места, пожирал глазами женщину, которая смотрела на него так, как смотрят куртизанки со старинных полотен. Она казалась ему немыслимо доступной, и в то же время была необычайно далека от него, реального Томаша, привыкшего говорить с ней на родном языке, завтракать за одним столом… Да мало ли на свете житейских мелочей, обаяние которых известно двоим, прожившим вместе не один год! И именно их, эти знакомые мелочи, искал и не находил в ней Томаш, — ненавистный ему карнавал проник даже сюда, в комнату, где они с Боженой наконец‑то остались одни…
И когда Томаш наклонился к ней, он увидел, как сотни других мужчин, так похожих на него, бросились обнимать своих красавиц.
Томаш хотел смотреть на Божену, видеть ее тело, ее лицо, глаза, но зеркала мешали ему: повсюду он видел себя. Покрасневшее от возбуждения, искаженное желанием лицо, жадные руки, затуманенный взгляд — это было невыносимо! И Божена, словно поняв его, отстранилась и, пройдя по комнате, задула все свечи, кроме одной, освещающей великолепно сервированный стол. Потом она, едва заметно улыбаясь под тонкой вуалью, взяла со стола лишь один бокал и вернулась к дивану. Она медленно опустилась перед Томашем на колени и дала ему глотнуть, по‑прежнему держа бокал в своих руках.
— Оставь это, иди ко мне, — выдохнул Томаш и, протянув к Божене руки, попытался нащупать то, что позволило бы ему снять с нее эту бесконечную вуаль, — пуговицы, замок, шнуровку. Но Божена вновь отстранилась от него и, вытянув руку, дала ему выпить содержимое бокала, напоминающее мартини, до дна. Потом, поставив бокал на зеркальный пол и по‑прежнему ни слова ни говоря, она села к нему на колени и принялась целовать его — так же страстно, как и у порога. Обнимая Божену, Томаш чувствовал, как трепещут ее бедра и вздымается грудь, но когда он снова попытался снять с нее платье, у него ничего не получилось.
— Подожди, — вдруг заговорила она, и это были первые ее слова, обращенные к нему за весь этот вечер, — я сейчас переоденусь и вернусь. — Она встала, взяла Томаша за руку и подвела его к заставленному всевозможными лакомствами столу. — Советую тебе не терять времени даром — такое можно попробовать только в Венеции.
И, собрав зачем‑то все детали своего костюма, Божена исчезла. Томашу показалось, что она вошла в одно из многочисленных зеркал и растворилась в нем.
«Да, эти венецианцы кое‑что понимают в искусстве обольщения», — признал про себя Томаш, пробуя что‑то удивительно вкусное и пикантное.
— Божена, ты слышишь? Я очарован! — крикнул Томаш в пустоту. — Ты совершенно очаровала меня!
Уход Божены не беспокоил его. «Она всегда долго готовилась, прежде чем позволяла раздеть себя. А уж тут, на карнавале, где ей так нравится ее роль… Загадочная птица! Ну что же, я подожду».
Аппетит, разгулявшийся вместе с желанием, постепенно усмирялся, желание же, подогреваемое новыми порциями мартини, усиливалось. Но Божена не возвращалась. «Неужели она сбежала опять?» — Томаш прошелся в полутьме, пытаясь разглядеть среди зеркал дверь, в которую вышла Божена.
— Дорогая, не заставляй меня больше ждать.
Вместо ответа в комнате вдруг зазвучала музыка — тихая, но страстная. «Гитара и еще что‑то необычное… Я уже слышал сегодня, как он звучит, когда слонялся утром по городу». Томаш вернулся к столу и развалился в венецианском кресле, упруго и удобно поддерживающем его тело.
Он сидел за столом, спиной к дивану, и, потягивая мартини, ждал возвращения Божены. Он предвкушал наслаждение, представляя, как она сейчас войдет, приблизится к нему, как он коснется ее гладкого тела… «А может быть и хорошо, что все так вышло… Эта история с Николой, отъезд Божены… Мы жили врозь чуть больше месяца, и привычка, прилипшая к нам за те годы, когда мы виделись изо дня в день, исчезла. Я уже давно не хотел ее так, как сейчас». Томаш закрыл глаза. Музыка зазвучала чуть громче — или ему только показалось?
От нечего делать он встал, вновь надел свою маску и увидел свое отражение в зеркалах напротив и позади. Он попытался отличить отражения того лица, что спереди, от того, что сзади.
И вдруг заметил в зеркалах какое‑то движение — в полутьме помещения был кто‑то еще. Зеркала беспорядочно множили фигуры, и Томаш, растерявшись, не знал, где искать. Пламя свечи колыхалось: Томаш уже не понимал, кажется ли это ему или в комнате действительно кто‑то есть. Он взял в руки свечу и двинулся по комнате, зажигая остальные, погашенные Боженой.
Томаш зажег три свечи в одном из позолоченных канделябров и оглянулся. Он стоял прямо напротив дивана. Близко ли, далеко от сидящей на нем пары — понять было невозможно. Зеркала, мартини, усталость и возбуждение сделали рассудок Томаша беспомощным. Он решительно двинулся в сторону Арлекино, который держал на коленях его Божену: она снова была с головы до ног в своем птичьем наряде, и ненавистный Томашу шут целовал ее, трогал ее руками, сминая белые перья накидки у нее на спине!.. Но сделав несколько шагов, Томаш понял, что перед ним — зеркало. Отражение! Он развернулся и увидел, что шел не в ту сторону, а диван — вот он, у противоположной стены. И на нем сидит смеющийся Арлекино, а на коленях у него — Божена в птичьей маске.
«Безумие, это безумие, — вертелось у Томаша в голове, — я убью его, убью их обоих!»
Подбежав к дивану, он резко отстранил вставшую ему навстречу Божену, схватил Арлекино за широкие, слишком широкие плечи и, бешено тряся его, закричал: «Вон! Пошел вон! Не смей больше касаться ее! Она моя жена, ты понимаешь это, негодяй?!»
Но Арлекино ловко вывернулся из его рук и, рассмеявшись Томашу прямо в лицо, запрыгнул на диван прямо в своих шутовских башмаках.
Томаш повернулся к Божене и гневно воскликнул: «И давно ты изменяешь мне с шутами?» Но Божена стояла и тоже смеялась, а потом как‑то странно, не своим голосом прошептала: «Но ты ведь не любишь меня, Томаш».
И тогда он возмущенно, сам веря себе, ответил ей, чеканя каждое слово:
— Я всегда любил только тебя, тебя одну. Столько лет мы вместе и ты еще сомневаешься в моей любви? Да я не только не дотронулся — не взглянул ни на кого за эти годы… Ты нужна мне… Только ты одна… — Он перешел на шепот и стал двигаться в сторону Божены, пытаясь коснуться ее, взять за руку. Но вдруг услышал голос Божены, идущий откуда‑то издалека:
— А как же Никола?
И он увидел за спиной у стоявшей перед ним птицы — точно такую же, но только сидящую за столом. Отражение? Но это невозможно! Он обернулся и онемел: да, Божена сидит за столом, рядом с ней — Арлекино. Снова обернулся — Божена стоит перед ним, а Арлекино скачет по дивану, разбрасывая подушки!..
Он несколько раз обернулся, поворачиваясь к каждой из птиц то одним застывшим лицом, то другим, пока одна из них, та, что стояла рядом, не откинула с головы капюшон и не сняла маску. Это была Никола!
А сзади к нему уже подходила тоже снявшая маску Божена — он видел ее отражение. Она прошла мимо него, подошла к сестре и обняла ее. «Спасибо», — услышал Томаш и, схватившись за голову — получилось, что за картонную, — выбежал из этой ужасной комнаты, каким‑то чудом найдя дверь, ведущую на лестницу, и, чуть не падая, побежал по ускользающим из‑под ног узким ступенькам, которые кружились у него в глазах…
Выбежав на улицу, Томаш подумал, что у него в глазах до сих пор мигают свечи, умноженные зеркалами. Но, приглядевшись, он увидел мелькающие за колоннадой галереи факелы, свечи, горящие лучины… В темноте казалось, что огонь движется по площади без всякого участия людей: широкой огненной рекой он лился по Сан‑Марко.
Сотни людей в масках и без масок двигались в одном направлении. Каждый нес в руках частицу огня. Но вместо того, чтобы невозмутимо нести свой огонь, участники шествия время от времени старались погасить огонь у другого. Отовсюду раздавались радостные возгласы на разных языках:
— Sia ammazzato chi non porte moccolo!
— Смерть тому, кто не несет огарка!
— Sia ammazzato!
— Да здравствует Праздник огня!
Какой‑то мальчик подбежал к Томашу и, увидев у него в руках погасшую свечу, которую тот так и не выпустил из рук, убегая из зеркальной комнаты, зажег ее от своего факела, взял Томаша за руку и потащил его в нестройные ряды огненного шествия.
Тут же к нему подбежала какая‑то маска и с криком «Sia ammazzato!» дунула на его свечу. Потом свечу зажгли опять, опять задули и вновь подожгли, а безучастный ко всему происходящему Томаш еще долго шел вместе со всеми, не думая ни о чем.
То, что произошло с ним в этот вечер, было похоже на дурной сон, и он пытался проснуться, но не мог.
И лишь когда огненная река вынесла его на мол, он, собрав всю накопившуюся в нем злость — на женщин, судьбу, карнавал, самого себя, — размахнулся и забросил свечу далеко в воды лагуны.
Постепенно приходя в себя под порывами пронизывающего ветра, Томаш начал понимать, что над ним зло подшутили. «Они сговорились, все сговорились!» — стучало у него в голове. Ему захотелось немедленно побежать назад, опять увидеть Божену и вывести всех на чистую воду!
Но в глубине души он все‑таки понимал, что весь запас негодования, накопившийся у него за последние дни, теперь ни к чему: ведь это его самого вывели на чистую воду две женщины, которых он в это мгновение одинаково ненавидел… Но ведь когда‑то любил! Или все это ему только казалось? Заменила же ему Никола на какое‑то время Божену, и не все ли теперь равно — на смену им обеим придет другая!

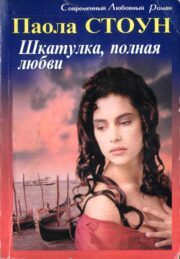
"Шкатулка, полная любви" отзывы
Отзывы читателей о книге "Шкатулка, полная любви". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Шкатулка, полная любви" друзьям в соцсетях.