— Видишь эту женщину? Это она донесла на свою дочь.
Тетка Тизон закричала в отчаянии и бросилась в сторону Тампля.
Она пробежала треть улицы Мишель-ле-Конт, когда перед ней появился какой-то человек, преградил ей дорогу и, закрыв лицо плащом, сказал:
— Ну, ты довольна, что убила собственное дитя?
— Убила свое дитя? Убила свое дитя? — воскликнула бедная мать. — Нет, нет, этого быть не может.
— И тем не менее это так, потому что твоя дочь арестована.
— Куда ее отвезли?
— В Консьержери, оттуда отправят в Революционный трибунал, а ты знаешь, что бывает с теми, кто туда попадает.
— Посторонитесь, — сказала тетка Тизон, — дайте мне пройти.
— Куда ты идешь?
— В Консьержери.
— Что ты там собираешься делать?
— Взглянуть на дочь хотя бы еще раз.
— Тебя туда не пустят.
— Но мне разрешат лежать на пороге, жить там, спать там. Я буду там до тех пор, пока ее не выведут, и, по крайней мере, увижу ее в последний раз.
— А если бы кто-нибудь пообещал тебе вернуть дочь?
— О чем вы говорите?
— Я спрашиваю тебя: если, предположим, кто-нибудь пообещал бы тебе вернуть дочь, ты сделала бы то, что велел бы тот человек?
— Ради моей дочери — все! Все ради моей Элоизы! — закричала мать, заламывая в отчаянии руки. — Все! Все! Все!
— Послушай, — сказал незнакомец, — ведь это Бог тебя наказывает.
— Но за что?
— За те муки, что ты причинила такой же бедной матери, как ты.
— О ком вы говорите? Что вы хотите сказать?
— Из-за твоих доносов и грубостей твоя пленница часто была на волосок от того отчаяния, в каком ты сейчас находишься сама. Бог наказал тебя: послал смерть девушке, которую ты так любишь.
— Вы сказали, что есть такой человек, кто может ее спасти. Где этот человек? Чего он хочет? Что требует?
— Этот человек хочет, чтобы ты прекратила преследовать королеву, чтобы ты попросила у нее прощения за нанесенные ей оскорбления. Чтобы, если ты заметишь, что эта женщина — а ведь она тоже мать, она тоже и страдает, и плачет, и отчаивается — волею судьбы или каким-то небесным чудом может спастись, то, вместо того чтобы препятствовать ее побегу, ты помогла ему всем, чем можешь, чтобы она спаслась.
— Послушай, гражданин, — сказала тетка Тизон, — это ведь ты тот самый человек, не так ли?
— Ну и что?
— Это ты обещаешь спасти мою дочь?
Незнакомец молчал.
— Ты мне это обещаешь? Обязуешься? Клянешься мне в этом? Отвечай!
— Послушай. Все, что мужчина может сделать для того, чтобы спасти женщину, я сделаю, чтобы спасти твое дитя.
— Он не может ее спасти! — воскликнула тетка Тизон и зарыдала. — Он не может ее спасти; он лгал, когда обещал ее спасти.
— Сделай все, что можешь, для королевы, и я сделаю все, что могу, для твоей дочери.
— Что мне до королевы? Она мать, у нее есть дочь — вот и все. И если кого-то лишат головы, то только ее, а не дочь. Пусть мне отрубят голову, но спасут мою дочь! Пусть меня отведут на гильотину, но с условием, что с головы моей дочери не упадет ни один волосок, — я пойду на гильотину, распевая:
Дело пойдет, пойдет, пойдет,
Бей аристократов!..
И тетка Тизон запела ужасным голосом. Потом внезапно прервала пение и разразилась хохотом.
Мужчина в плаще, казалось, был сам напуган этим начинающимся безумием и сделал шаг назад.
— О! Ты не уйдешь так просто, — в отчаянии воскликнула тетка Тизон, хватая его за плащ. — Нельзя сказать матери: «Сделай это, и я спасу твое дитя» — и после того добавить: «Может быть». Так ты спасешь ее?
— Да.
— Когда?
— В тот день, когда ее повезут из Консьержери на эшафот.
— Зачем ждать? Почему не сегодня ночью, не сегодня вечером, не теперь же?
— Потому что не могу.
— Ага! Вот видишь, видишь, — закричала тетка Тизон, — ты не можешь, а вот я, я могу!
— Что же ты можешь?
— Я могу преследовать пленницу, как ты ее называешь; могу следить за королевой, как ты говоришь, аристократ ты этакий! Я в любое время дня и ночи могу войти в тюрьму и сделаю это. Что же до ее спасения, посмотрим. И еще как посмотрим! Ведь мою дочь не хотят спасти, а ее должны спасти? Голову за голову, хочешь? Мадам Вето была королевой, я это хорошо знаю; Элоиза Тизон всего лишь бедная девушка, я и это хорошо знаю. Но перед гильотиной все мы равны.
— Что ж, пусть будет так, — сказал человек в плаще, — спаси ее, а я спасу твою дочь.
— Поклянись.
— Клянусь.
— Чем?
— Чем хочешь?
— У тебя есть дочь?
— Нет.
— Ну вот, — сказала тетка Тизон, уронив руки в унынии, — чем же ты поклянешься?
— Клянусь Богом.
— Вот еще, — ответила женщина. — Ты же хорошо знаешь, что они уничтожили старого, а нового еще не сотворили.
— Клянусь могилой своего отца.
— Не клянись могилой, это принесет ей несчастье… О Боже мой, Боже мой! Как только подумаю, что, может быть, через три дня тоже буду клясться могилой моей дочери! Моей дочери! Моей бедной Элоизы! — воскликнула тетка Тизон так громко, что на ее и без того звонкий голос открылись многие окна.
Увидев это, другой мужчина отделился от стены и шагнул к первому.
— С этой женщиной не о чем говорить, — сказал тот, что был в плаще, — она безумна.
— Нет, она всего лишь мать, — ответил другой.
И он увел своего товарища.
Видя, что они уходят, тетка Тизон, казалось, пришла в себя.
— Куда вы? — закричала она. — Спасать Элоизу? Подождите, я пойду с вами. Подождите, да подождите же!
И с криками бедная мать последовала за ними, но на ближайшем перекрестке потеряла их из виду. Не зная, в какую сторону свернуть, она, оглядываясь по сторонам, на миг остановилась в нерешительности. Поняв, что она осталась одна в ночи и в тишине — двойном символе смерти, — несчастная душераздирающе закричала и рухнула без сознания на мостовую.
Пробило десять часов.
Прозвучали десять ударов и на башенных часах Тампля. Королева, сидя в знакомой нам комнате возле коптящей лампы между золовкой и дочерью, скрытая от взглядов муниципальных гвардейцев юной принцессой, которая притворялась, что обнимает ее, перечитывала маленькую записку на самой тонкой бумаге, какую только можно было найти, и с таким мелким почерком, что ее обожженные слезами глаза едва в силах были его разобрать.
В записке было следующее:
«Завтра, во вторник, попроситесь спуститься в сад; это Вам будет разрешено без каких-либо трудностей, потому что приказано предоставить Вам эту льготу тотчас, как Вы только об этом попросите. Сделав три или четыре круга, притворитесь уставшей, подойдите к кабачку и попросите у вдовы Плюмо разрешения посидеть там. Через минуту притворитесь, что Вам стало хуже, что Вы сейчас лишитесь чувств. Тогда запрут двери снаружи, чтобы можно было сходить за помощью; Вы останетесь с дочерью и принцессой Елизаветой. Тотчас же откроется люк в подвал. Поспешите спуститься туда вместе с сестрой и дочерью, и Вы будете спасены».
— Боже мой! — произнесла юная принцесса. — Неужели наступит конец нашим несчастьям?
— А эта записка не западня? — усомнилась мадам Елизавета.
— Нет, нет, — ответила королева, — этот почерк всегда говорил мне о присутствии друга, таинственного, но очень мужественного и очень верного.
— Это от шевалье? — спросила юная принцесса.
— От него, — сказала королева.
Мадам Елизавета сжала руки.
— Перечитаем записку потихоньку все вместе, — предложила королева, — тогда, если одна из нас что-то забудет, другая вспомнит.
Они втроем стали читать и, когда заканчивали чтение, услышали, что дверь их комнаты отворяется. Обе принцессы обернулись; королева, не меняя положения, незаметным движением поднесла записку к волосам и сунула ее в прическу.
Дверь открыл один из муниципальных гвардейцев.
— Что вам угодно, сударь? — хором спросили принцессы.
— Гм! — хмыкнул гвардеец. — По-моему, вы сегодня что-то поздно ложитесь спать…
— Разве есть новое постановление Коммуны, — спросила королева, поворачиваясь к нему со своим обычным достоинством, — которое определяет, в каком часу мне нужно отправляться в постель?
— Нет, гражданка, — ответил гвардеец, — но, если нужно, такое постановление будет принято.
— А пока, сударь, — продолжала Мария Антуанетта, — извольте уважать, я не говорю комнату королевы, но комнату женщины.
— И впрямь, — проворчал гвардеец, — эти аристократы вечно говорят так, будто они еще что-нибудь значат.
Однако, повинуясь этому достоинству — в дни благоденствия оно было высокомерным, а за три года страданий сделалось спокойным, — он удалился.
Через минуту лампа погасла; как обычно, женщины разделись в темноте, оберегая свою стыдливость.
На следующий день, в девять утра, королева, перечитав спрятанную в занавесках постели вчерашнюю записку, чтобы ни в чем не отклониться от данных в ней инструкций, разорвала ее на почти неосязаемые кусочки, оделась за занавесками и, разбудив золовку, пошла к дочери.
Через минуту она вышла и позвала дежурных гвардейцев.
— Что тебе нужно, гражданка? — спросил один из них, появляясь в дверях; другой не соизволил оторваться от завтрака, чтобы откликнуться на зов королевы.
— Сударь, — сказала Мария Антуанетта, — я сейчас была в комнатах моей дочери; бедное дитя, она действительно очень больна. У нее распухли и сильно болят ноги, ведь она слишком мало ходит. Вы, наверное, знаете, что мне было разрешено выходить на прогулку в сад, но для этого нужно было проходить мимо двери комнаты, где раньше жил мой муж; когда я подошла к этой двери, мне стало дурно, силы покинули меня и я поднялась обратно, решив ограничиться прогулками по террасе. Теперь же такие прогулки недостаточны для моей бедной дочери. Я прошу вас, гражданин гвардеец, попросить от моего имени у генерала Сантера возобновить данное мне раньше разрешение. Буду вам за это признательна.

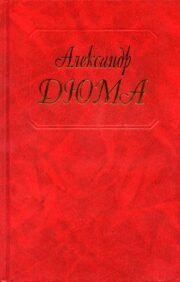
"Шевалье де Мезон-Руж" отзывы
Отзывы читателей о книге "Шевалье де Мезон-Руж". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Шевалье де Мезон-Руж" друзьям в соцсетях.