— А как выглядит этот шевалье де Мезон-Руж? — поинтересовался Моран.
— Ему лет двадцать пять-двадцать шесть, он невысокого роста, блондин с приятным лицом, чудесными глазами и великолепными зубами.
Стало очень тихо.
— Ну хорошо, — сказал Моран, — если ваш друг из муниципальной гвардии предположил, что это шевалье де Мезон-Руж, почему же он его не арестовал?
— Ну, потому что, во-первых, не зная о его прибытии в Париж, он побоялся быть обманутым случайным сходством, а во-вторых, мой друг — человек несколько умеренный и всегда поступает так, как люди мудрые и умеренные: в случае сомнения воздерживается от действий.
— Вы бы так действовать не стали, гражданин? — внезапно спросил Диксмер Мориса, засмеявшись.
— Признаюсь, нет, — ответил Морис, — я бы предпочел обмануться, чем упустить столь опасного человека, как этот шевалье де Мезон-Руж.
— И что бы вы сделали, сударь? — спросила Женевьева.
— Что бы я сделал, гражданка? — ответил Морис. — О, Боже! Это не заняло бы много времени: я велел бы запереть все двери и ворота в Тампле, направился бы прямо к этому патрульному отряду, схватил за ворот шевалье и сказал бы ему: «Шевалье де Мезон-Руж, я арестую вас как предателя нации!» И уж если бы я схватил его за ворот, то ручаюсь, не выпустил бы.
— Но что бы с ним было потом? — спросила Женевьева.
— Был бы судебный процесс над ним и его сообщниками, и сейчас он был бы уже гильотинирован, вот и все.
Женевьева вздрогнула и бросила на своего соседа взгляд, полный ужаса.
Но гражданин Моран, казалось, не заметил этого взгляда и флегматично опорожнил свой стакан.
— Гражданин Ленде прав, — сказал он, — только так и нужно было действовать. К сожалению, этого не сделали.
— А известно ли, что стало с шевалье де Мезон-Ружем? — спросила Женевьева.
— Ба! — сказал Диксмер. — Скорее всего, он тихонько ретировался; увидев, что его попытка не удалась, он, вероятно, сразу же покинул Париж.
— А возможно, даже и Францию, — добавил Моран.
— Вовсе нет, вовсе нет, — вмешался Морис.
— Как! Он имел неосторожность остаться в Париже? — воскликнула Женевьева.
— Он не двинулся с места.
Это предположение, высказанное Морисом так уверенно, было встречено всеобщим удивлением.
— Вы высказываете лишь предположение, гражданин, — сказал Моран, — предположение, только и всего.
— Нет, это факт, это утверждение.
— О! — произнесла Женевьева. — Что до меня, то, признаюсь, не могу поверить тому, о чем вы говорите, гражданин: это было бы непростительной неосторожностью.
— Вы женщина, гражданка, стало быть, поймете, что у человека с характером шевалье де Мезон-Ружа должно быть нечто, что одержит верх над всеми мыслимыми соображениями собственной безопасности.
— И что же ставит его выше страха лишиться жизни таким ужасным способом?
— Бог мой! Любовь, гражданка, — ответил Морис.
— Любовь? — повторила Женевьева.
— Несомненно. Разве вы не знаете, что шевалье де Мезон-Руж влюблен в Антуанетту?
Раздались два-три недоверчивых смешка, робких и вымученных. Диксмер посмотрел на Мориса так, будто пытался читать в глубине его души. Женевьева чувствовала, что слезы застилают ей глаза, а пробежавшая по ней дрожь не ускользнула от Мориса. Гражданин Моран пролил вино из бокала, который он в этот момент подносил к губам, и его бледность ужаснула бы Мориса, если бы все внимание молодого человека в этот момент не было сосредоточено на Женевьеве.
— Вы взволнованы, гражданка, — прошептал Морис.
— Разве вы не говорили, что я пойму, ведь я женщина? Женщин всегда трогает такая преданность, даже идущая наперекор их принципам.
— А преданность шевалье де Мезон-Ружа еще более привлекательна, — сказал Морис, — уверяют, что он никогда не говорил с королевой.
— Послушай, гражданин Ленде, — заявил сторонник крайних мер, — мне кажется, и позволь уж мне сказать об этом, что ты слишком снисходителен к этому шевалье.
— Сударь, — сказал Морис, возможно намеренно используя слово, вышедшее из употребления, — я всегда восхищаюсь натурами гордыми и мужественными, что не мешает мне бороться с ними, когда я встречаю их в рядах своих врагов. Я не теряю надежды встретиться когда-нибудь с шевалье де Мезон-Ружем.
— И что тогда будет? — спросила Женевьева.
— И, если я его встречу, то сражусь с ним.
Ужин был закончен. Женевьева, поднимаясь из-за стола, подала всем пример.
В этот момент раздался бой часов.
— Полночь, — спокойно произнес Моран.
— Полночь! — воскликнул Морис. — Уже полночь!
— Это восклицание радует меня, — сказал Диксмер. — Оно доказывает, что вам не было скучно, и вселяет надежду, что мы встретимся вновь. Это дом доброго патриота, он открыт для вас, и смею надеяться, вы скоро убедитесь, что это дом друга.
Морис поклонился в знак благодарности и повернулся к Женевьеве:
— Гражданка тоже позволяет мне вернуться?
— Не только позволяю, я прошу вас об этом, — с живостью ответила Женевьева. — Прощайте, гражданин.
И она ушла к себе.
Морис попрощался с каждым из гостей, выделив при этом Морана, который ему очень понравился, пожал руку Диксмеру, и ушел слегка ошеломленный, но скорее обрадованный, чем опечаленный, всеми этими такими разными событиями, что ему пришлось пережить в этот вечер.
— Несносная, досадная встреча! — сказала после ухода Мориса молодая женщина, разражаясь слезами в присутствии мужа, который вместе с ней вошел в ее комнату.
— Ну, полно! Гражданин Морис Ленде — известный патриот, секретарь секции, чистый, любимый народом, популярный. Напротив, это ценное приобретение для бедного кожевенника, промышляющего контрабандной торговлей, — ответил улыбаясь Диксмер.
— Вы действительно так думаете, друг мой?.. — робко спросила Женевьева.
— Я думаю, что он будет как бы свидетельством патриотизма и своего рода индульгенцией для нашего дома. Уверен, что начиная с этого вечера сам шевалье де Мезон-Руж был бы у нас в безопасности.
И Диксмер, поцеловав жену в лоб скорее с отеческой, чем с супружеской нежностью, оставил ее в маленьком павильоне, полностью принадлежащем ей, и перешел в другую часть дома, где он жил вместе с гостями, которые были у него за столом.
X
САПОЖНИК СИМОН
Наступило начало мая. Ясный день наполнял теплом легкие, уставшие дышать ледяными зимними туманами; лучи нежаркого, но живительного солнца опустились на темные стены Тампля.
У внутренней калитки, отделявшей башню от садов, смеялись и курили солдаты караульного отряда.
Несмотря на прекрасный день, все три женщины ответили отказом на предложение спуститься и прогуляться по саду: королева после казни мужа упорно избегала этого, чтобы не проходить мимо дверей комнат короля на третьем этаже.
После зловещего дня 21 января она иногда прогуливалась на свежем воздухе, но на верхней площадке башни, огороженной зубцами (промежутки между ними были заколочены деревянными решетками).
Дежурные солдаты национальной гвардии были предупреждены, что трем узницам разрешено выйти на прогулку, но целый день напрасно прождали их: они не воспользовались разрешением.
Около пяти часов во внутренний дворик спустился какой-то мужчина и подошел к сержанту, командиру караульного поста.
— А, это ты, папаша Тизон! — произнес сержант; чувствовалось, что у него хорошее настроение.
— Да, это я, гражданин. Я принес от Мориса Ленде, твоего друга — он сейчас там, наверху, — разрешение, выданное советом Тампля моей дочери. Сегодня вечером она может прийти ненадолго, чтобы проведать мать.
— А ты уходишь как раз в то время, когда должна прийти дочь, бессердечный ты отец? — спросил сержант.
— Ах, не по своей воле ухожу, гражданин сержант. Я не видел свою бедную дочь уже два месяца и надеялся расцеловать ее, что называется, в обе щечки, как положено отцу. И вот надо же! Служба, эта проклятая служба заставляет меня идти с докладом в Коммуну. У ворот меня ожидают два сержанта с фиакром, и как раз в то время, когда должна прийти моя бедняжка Элоиза.
— Несчастный отец! — пожалел его сержант. —
Вот так любовь к отчизне душит
В тебе отцовскую любовь;
Как борются они — послушай! —
Но долгу жертвуя…
Послушай, папаша Тизон, если случайно найдешь рифму к слову «любовь», скажи мне. Сейчас что-то не удается ее подобрать.
— А ты, гражданин сержант, когда дочь придет повидаться со своей несчастной матерью, ведь та без нее уже просто погибает, пропусти ее.
— Приказ — закон! — ответил сержант (читатели, несомненно, узнали в нем нашего друга Лорена). — Тут и говорить нечего: когда придет твоя дочь, ее пропустят.
— Спасибо, храбрый фермопил, спасибо, — поблагодарил Тизон.
И он направился с докладом в Коммуну, бормоча:
— Ах, бедная жена, хоть бы ей посчастливилось!
— Послушай, сержант, — обратился к Лорену один из караульных, услышав эти слова и глядя вслед удалявшемуся Тизону, — а знаешь, это ведь трогает до глубины души.
— Что именно, гражданин Дево? — спросил Лорен.
— Ну, как же! — сказал сердобольный национальный гвардеец. — Видеть, как человек с суровым лицом и каменным сердцем, этот безжалостный страж королевы, уходит со слезами на глазах, радуясь, что его жена увидит дочь, и горюя, что он не увидит ее! Да, сержант, не раздумывая, можно сказать, все это очень печально…
— Да, печально, потому что он и не раздумывает, а просто уходит со слезами на глазах, как ты говоришь.

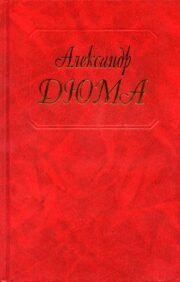
"Шевалье де Мезон-Руж" отзывы
Отзывы читателей о книге "Шевалье де Мезон-Руж". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Шевалье де Мезон-Руж" друзьям в соцсетях.