Бледное лицо Клементины отражалось в ряде днищ медных тазов, когда она бежала к двери, ведущей к конюшне на заднем дворе, куда должен был явиться ее ковбой, увидев условленный сигнал. Каблуки стучали по кирпичному полу. Мешочек с монетами подпрыгивал в кармане, сильно ударяя по бедру.
Задвижку заклинило, и Клементина ушибла костяшки пальцев, пытаясь ее сдвинуть. Дверь скрипнула как ржавая цепь, когда ее наконец-то удалось распахнуть. Клементина вывалилась на веранду и, спотыкаясь и задыхаясь, предстала перед рослым мужчиной, казавшимся еще выше из-за высокой тульи широкополой шляпы.
– Мистер Маккуин... – Ей пришлось прерваться на глубокий вдох. – Я пришла.
Его смех прозвучал по-мальчишески беззаботно, белые зубы сверкнули под длинными свисающими изгибами усов.
– Я слышал, как вы идете, мисс Кенникутт. Я и остальной Бостон. – Он забрал ее саквояж, из которого торчали нижняя юбка и корсетный шнурок, забросил в двуколку и протянул руку Клементине.
– Постойте, есть еще один, – указала она пальцем: – Вон там, за мусорным ящиком, под кучей старых джутовых мешков.
Гниющие мешки скрывали скрепленный медными ободами чемодан из телячьей кожи, набитый латунным оборудованием. По детали за раз Клементина тайком перенесла аппаратуру в конюшни через весь дом.
– Что ты сюда запихала? — проворчал ковбой, с трудом подняв баул и пытаясь втиснуть его в узкое пространство между маленьким кожаным сиденьем и крылом двуколки. – Кирпичи и булыжники?
– Это всего лишь фотокамера, – быстро сказала Клементина, боясь, что мистер Маккуин попросит оставить поклажу здесь, что ей придется выбирать между новой жизнью и столь важной для нее частью старой. – А еще стеклянные пластины, химикаты и прочее. Для всего этого там ведь найдется место, да? Не слишком тяжело? Я сама могу …
Маккуин повернулся и взял в ладони голову Клементины так, как это недавно сделала мать. Однако он еще и поцеловал ее. Поцелуй мужчины, настойчивый и неистовый, вызвал у нее возбуждение и сбил дыхание.
– Я знал, что ты со мной поедешь. Просто знал, и все.
Он обхватил талию Клементины сильными руками и, подняв девушку, усадил в двуколку. Запрыгнул на соседнее сиденье, хлопнул вожжами по крупу лошади, и коляска, стуча колесами, покатилась из аллеи и повернула в сторону реки.
Клементина Кенникутт оглянулась на отчий дом, посмотрела на окно комнаты, которая всю жизнь принадлежала ей. Мерцающий огонек вспыхнул на мгновение и исчез — мама подняла свечу в кратком и одиноком прощании.
Девушка наблюдала за темным потухшим окном, пока особняк не поглотили тени от вязов, после чего повернулась вперед, где над мансардными крышами Бикон-Хилла плыла луна, круглая и пухлая, словно рождественский апельсин.
Запрокинув голову, Клементина тихо рассмеялась в ночное небо.
– Что? – спросил сидящий рядом молодой человек. Он потянул повод, и лошадь, высоко поднимая ноги, повернула за угол. Луисбургская площадь и дом отца исчезли навсегда, но луна осталась с ней.
Клементина снова рассмеялась, протянув руку с широко растопыренными пальцами к луне. Но та была вне досягаемости.
* * * * *
Клементина Кенникутт частенько думала, что если бы жизнь писалась как любовный роман, то ей было бы предопределено в конце концов выйти замуж за ковбоя.
На самом деле в своих фантазиях она сама гнала диких мустангов через пастбище, наводила прицел на бросившегося в паническое бегство буйвола и с криками преследовала зверюгу до самого Додж-Сити. Однако на все нужно смотреть прагматично. Даже в мечтах маленькие городские девочки не вырастали ковбойшами. Но вырастали, чтобы стать женами, и если... ну, только предположить... Но и такой вариант, как сознавала Клементина, немыслим для девушки, чей отец служил проповедником в храме Тремонт в Бостоне, штат Массачусетс. Девушки, чей образ жизни так же радикально отличался от ковбойского уклада, как головка сыра от луны.
Союз ее родителей представлял собой брак по расчету. Джулия Паттерсон принесла к алтарю наследство в пятьдесят тысяч долларов и дом на Бикон-Хилл. А преподобный Теодор Кенникутт — уважаемую старую бостонскую фамилию и свою набожность. Клементина являлась их единственным ребенком, и мистер Кенникутт хорошо понимал свой долг как родителя и как служителя Бога. Дочери – непрочные сосуды скудельные, жертвы тщеславия и неуравновешенности. Красивое лицо не отражает чистую душу. Никому не разрешалось холить, баловать или опекать маленькую Клементину.
Иногда, когда ей полагалось размышлять над своими грехами, девочка мыслями возвращалась назад, так далеко, насколько воспоминания могли унести ее, так далеко, что она еще не знала о ковбоях.
Наверное, ей было года четыре в то лето, когда дед взял Клементину в белильный цех и она увидела, какой может быть жизнь.
У дедушки Паттерсона было улыбающееся лицо, румяное, как переспелое яблоко, и большой живот, который постоянно трясся от громкого гулкого смеха. Отцу матери принадлежали многочисленные фабрики по окраске тканей, и в тот день он пригласил внучку и дочь на прогулку в деревню, где держал свою белильную: огромное кирпичное строение с изрыгающей дым трубой. Внутри громадные булькающие чаны испускали клубящиеся облака пара. Сотни труб опутывали потолок подобно паутине, и с них капало на голову. От испарений щипало в носу и слезились глаза. Мама сказала, что белильная напоминает ей ад с котлами, но Клементине она понравилась. Грохочущий шум, ужасная вонь, давка и сутолока – тут кипела настоящая жизнь. Даже сейчас, думая о полноте жизни, Клементина представляла ту суматошную зловонную белильную. Она сразу полюбила то место и с едва сдерживаемым волнением ждала, когда сможет снова туда вернуться, но так и не дождалась.
В любом случае то лето было магическим, поскольку мама много улыбалась и у нее начал расти живот, как у дедушки Паттерсона. Кухарка сказала, что миссис Кенникутт носит ребенка, но Клементина не верила в это до того дня, пока мама не взяла ее руку и не позволила ощутить толчок ножкой под туго обтягивающей выступающий живот желтой хлопчатобумажной тканью утреннего платья.
Клементина рассмеялась от удивления.
– Но как ребеночек смог попасть внутрь?
– Тсс! – поругала ее мать. – Никогда не задавай таких неприличных вопросов!
Тем не менее обе расхохотались, когда малыш снова толкнулся.
Клементина всегда улыбалась, вспоминая, как они с мамой вместе смеялись. Но у мыслей есть особенность перетекать из одной в другую, и в ее воспоминаниях смех перерастал в крики, шорох шагов по коридору посреди ночи и перешептывания слуг у двери детской, мол, жена преподобного, по всему видать, умирает, и уже утром маленькая Клементина станет бедной сироткой, лишившись матери.
Той ночью Клементина неподвижно лежала в своей постели, слушая мамины вопли. Смотрела, как растаяли тени и сквозь листья вязов в парке забрезжил солнечный свет. Улавливала чириканье воробьев, скрежет и грохот повозки с молоком. И вдруг крики прекратились.
«Утром», – как шептали под дверью. Утром ее мама будет мертвой, а она станет сиротой.
Солнце светило уже несколько часов, когда к ней пришел преподобный Кенникутт. Хотя он иногда и пугал ее, Клементине нравилось, как выглядел отец. Он был таким высоким, что, казалось, его голова доставала до неба. Длинная густая борода внизу раздваивалась, и концы закручивались кверху, подобно ручкам крынки. Борода была того же цвета, что и волосы на голове — блестяще-черной, как пролитые чернила. Глаза отца тоже сияли, особенно по вечерам, когда он приходил, чтобы помолиться с дочерью. Он говорил гулким голосом, напоминающим вой ветра в деревьях. Клементина не понимала всех благочестивых слов, но любила их звучание. Преподобный рассказывал, как каждый день Бог судил праведных и гневался на нечестивых, и она думала, что, должно быть, ее папа и есть Бог, ведь он такой большой и величественный, и ей очень хотелось порадовать его.
– Пожалуйста, отец, – сказала Клементина в тот день, стараясь держать глаза смиренно опущенными, хотя в груди щемило от нехватки воздуха. — Я стала бедной сироткой?
– Твоя мать при смерти, – ответил он, – а ты думаешь только о себе. Ты полна греховности, дочь. Полна такой дикости и своевольности, что иногда я боюсь за твою бессмертную душу. «Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно».
Клементина вскинула голову и сжала кулаки.
– Но я чиста. Чиста! – В груди закололо, когда она посмотрела отцу в лицо. – И мои глаза тоже чисты, отец. Правда.
Преподобный глубоко и печально вздохнул.
– Ты должна помнить, что наш Господь видит все, Клементина. Не только наши деяния, но и сердца и помыслы. А теперь пойдем, нам нужно молиться. – Отец отвел ее в центр комнаты и, надавив на плечи, поставил дочь на колени. Поднял большую тяжелую руку и положил ее на голову Клементины, на простой грубый хлопчатобумажный чепец, который всегда покрывал волосы девочки, чтобы не дать ей поддаться тщеславию.
– Всемогущий Боже, если в твоем безграничном милосердии... – Он замолчал. Голова дочери не была опущена, как подобает при молитве. Преподобный надавил пальцами, но произнес мягко: – Твоя сестренка скончалась, Клементина. Она отправилась к небесной славе.
Клементина склонила голову под нажимом отца, обдумывая его слова. Она никогда не могла отчетливо представить себе царство небесное, но вспомнила, как мама сказала, что белильная похожа на ад с котлами, и улыбнулась.
– О, надеюсь, что нет, отец. Надеюсь, она отправилась в ад.
Преподобный резко отдернул руку от головы дочери.
– Что же ты за невоспитанный ребенок?
– Я Клементина, – ответила она.
В тот день Клементине запретили покидать детскую. За час до сна отец снова зашел и прочел ей из Библии об озере огненном и серном и о праведном гневе, который ожидает ее в смертный час, ибо милосердия она не заслуживает. Преподобный сказал, что даже согрешивших ангелов не пощадили, а напротив, низринули в ад, где им суждено страдать до скончания веков.

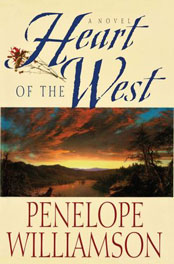
"Сердце Запада" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сердце Запада". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сердце Запада" друзьям в соцсетях.