Они остановились возле водительской дверцы, смотрели друг на друга так же, как там, в квартире, продолжая все погружаться и погружаться в новый, распахнувшийся перед ними мир, и снова молчали, немного прибитые силой и мощью этого удивительного откровения.
– Я быстро, – пообещал Барташов, разбив наконец это их молчание.
Мира кивнула и отошла. Он сел за руль, завел мотор, опустил стекло, снова посмотрел на нее долгим взглядом и начал выруливать с парковки.
Мира стояла в кухне у окна, смотрела в ночь и ждала его возвращения.
Оставив дверь незапертой, стояла и ждала.
Час. Два. Три.
Она была уверена, что Андрей не попал ни в какую аварию и с ним ничего не случилось, что они с Петькой благополучно доехали домой.
И ждала.
Через три с половиной часа Мира заперла дверь на замок и легла в кровать, положив рядом с собой на подушку смартфон, чего никогда не делала, всегда оставляя его в прихожей на ночь и выключая звук.
Утром первой ясной и четкой мыслью Миры Андреевой было понимание того, что Андрей Барташов не приедет.
Ни сегодня, ни завтра. Никогда.
Она встала и начала собираться на работу.
Мир не остановился и не рухнул, жизнь не оборвалась и продолжала свое обыденное течение.
Просто, в который раз за свою жизнь, Мира стала другой этим утром.
Уложив сына, Барташов застыл у окна в своей комнате и, засунув кулаки в карманы брюк, смотрел в ночь, точно зная, что где-то там вот так же стоит сейчас у окна Мира и смотрит в эту же темноту.
И ждет его.
Весь сегодняшний день, проведенный с ней, стал для Барташова настоящим, огромным потрясением.
Он открыл для себя необыкновенную девушку Миру, которую не знал и проглядел при всех предыдущих встречах. Он наблюдал за ней, когда она смеялась и шутила, когда хмурилась, вспоминая что-то неприятное. Смотрел и ощущал рецепторами всей своей чувственности и поражался глубине и многомерности этой женщины.
Он хохотал вместе с ней, когда они лазали по скалодрому, а потом старались победить другие семьи в соревнованиях и играх, в которые затягивал их Петька. Он заглядывал в ее темно-синие глаза, так похожие на глаза его сына, и чувствовал, что доверяет ей так, как не доверял никому в своей жизни. И дивился этому невероятно, не понимая себя и поражаясь самому себе.
В какие-то минуты, пусть мимолетно, но Андрей чувствовал себя с ней, как с самым близким другом, а потом вдруг ощущения менялись, и она становилась ему непонятна, недосягаема и загадочна. Она была то бесенком, веселящимся подростком, то мудрой женщиной, то Петькиной подружкой, то таинственной, интригующей личностью.
И что самое поразительное – она не играла! Вот ни разу!
Она была естественна и проста в своем поведении, в каждом проявлении своих чувств и реакций и ничего не пыталась изобразить, не играла никаких ролей.
И это подкупало.
Барташов, конечно, присматривался к ней чисто по-мужски, задавая себе вопрос про половое влечение, и мысленно оценивал – ничего, привлекательная, временами даже очень, но в общем и среднем все так же не его типаж в сфере сексуальных предпочтений.
Но, без сомнения, эта Мира весьма эротически интересная девочка.
К тому же для ограничения возможных сексуальных фантазий и легкого флирта рядом находился естественный «тормоз» – Петька.
Барташову нравилось легко болтать с девушкой, ему ужасно импонировала ее ироничность, она оказалась интересным, умным и очень глубоким собеседником, и ему доставлял удовольствие сам разговор.
Когда они ехали из детского центра, он все поглядывал в зеркало на заднее сиденье, где устроились Мира с Петькой, и непроизвольно улыбался всю дорогу.
Мира предложила Петьке выучить небольшую французскую песенку, переведенную на русский язык, про важный и гордый Пирог, раз уж они едут есть пирог. И Петька повторял за ней текст, особенно стараясь произносить грассирующую «р» и шипящую «ш», и попадать в лад, а когда ошибался, запрокидывал голову, весело хохотал и кидался к девушке, обнимал за шею, и целовал в щеку, и прижимался, а она что-то весело шептала ему на ушко.
И Барташов, в который уже раз, задавался вопросом, что это за любовь у них такая странная, и до сих пор не определился и не знал, как к этому относиться.
А потом случилось это откровение, после которого все изменилось, словно она взяла его за руку и перевела в другое измерение, в котором они находились вроде бы и порознь, но на самом деле были одним целым.
Вот же… Он не смог бы объяснить. Да никто бы не мог – это невозможно постичь, не то что объяснить.
Но то, что Андрей испытал, потрясло его и безвозвратно переменило все в нем как в личности и как в мужчине. Такого чувственного, до восторженного замирания сердца, влечения к женщине, не просто физического, а как бы сразу душевного и духовного узнавания и телесной тяги, он не испытывал никогда и ни к кому. И даже представить не мог, что возможно испытывать столь мощные чувства.
Находясь все еще там, в том измерении, куда они вошли вдвоем, он спешил отвезти Петьку и всеми своими устремлениями рвался, торопился вернуться к ней и прижать к себе, вдохнуть ее запах, почувствовать ее всю, по-настоящему, погрузиться с головой и безвозвратно в мир под названием Мира…
И опомнился, когда его, со спящим сыном на руках, встретила мама, открыв дверь.
– Ну, вы загулялись, – улыбаясь, сказала она, пропуская Андрея вперед, – заигрались совсем.
И Барташова словно переключило от этих ее слов. Как стукнуло что-то в голове.
Он помог маме переодеть и уложить Петеньку, выключил верхний свет и зажег небольшой ночничок, подошел к окну и посмотрел за стекло.
Да, это мама очень верно заметила: «Заигрались они».
Барташов никогда по-настоящему не любил женщину. Увлекался, влюблялся, бывало, сильно желал, но глубокого чувства не испытывал никогда, даже срывающей все ограничения жгучей страсти не случалось в его жизни. Легко вступал в отношения, легко расставался и заводил новые.
Не испытывал мук ревности и тяжелых переживаний расставания, к тому же его не бросила ни одна женщина, если не считать Элку с ее маниакальным стремлением построения карьеры.
И, по всей видимости, теперь расплачивается именно за это.
Но то, что сейчас с ним произошло, рушило все прежние представления. Барташов, рациональный человек, привыкший апеллировать точными расчетами, наукой, цифрами, прагматик и практик, даже не пытался отрицать того, что испытывал, и подвергать сомнениям – настолько это было настоящим, реальным и мощным.
Но он испугался.
Он вдруг понял, что, если «шагнет» сейчас в ту невидимую дверь, что открылась перед ними с Мирой, позволит себе всё целиком, без уверток и страха, позволит этим чувствам окончательно войти в его жизнь и завладеть им и поддастся тому мощному духовному и физическому притяжению – возврата назад не будет.
И когда все это рухнет, не выдержав натиска обычной жизни и каждодневного быта, он разрушится как личность и будет погребен под обломками. И оттуда не выберется уже никогда.
А еще есть Петька, который тоже пострадает от последствий этого разрушения.
Барташов стоял сейчас на краю обрыва, и перед ним открывался неведомый, великолепный мир, обещавший сказочное преображение и чувства, которые он не испытывал никогда – целый космос.
Он всматривался в бездну, переливающуюся звездами неведомой, прекрасной вселенной, а бездна всматривалась в него.
И он отшатнулся. Отступил назад.
Испугавшись.
Когда-то одна мудрая женщина сказала: «Любовь требует мужества». Только сейчас Барташов понял, что она имела в виду.
И не нашел в себе этого мужества.
Через неделю после проведенного совместного дня с сыном и отцом Барташовыми и побега последнего, в следующую субботу, после утренней записи на студии, дневного спектакля и двух важных встреч, умотанная до предела Мира возвращалась домой, чувствуя свинцовую тяжесть.
У подъезда на скамейке сидел Коля, а возле него лежал красавец букет крупных ярко-алых роз. Тяжко вздохнув, Мира устало опустилась рядом с ним на скамейку и смотрела куда-то вперед, в пожухлые, поредевшие кусты сирени.
Посидели. Помолчали.
– Я знаю, ты считаешь меня придурком, – заговорил тихо Ростошин, не глядя на девушку, а тоже куда-то вперед, на увядающие осенние листья. – Да я и сам себя им считаю. Ни за одной теткой никогда не бегал. Да еще чтобы так… как дрыщ последний, унижаюсь, достаю со своей любовью. Знаю, что надо мной весь наш театр потешался, а уж что наши в Сетях про меня выкладывают… – Он помолчал. – Я же не идиот клинический, Мира, я все понимаю. – Он взял букет со скамейки и сунул ей в руки: – Вот. Возьми, – и вздохнул тяжело, – заканчивать с этим надо.
«Все равно, – подумала она отстраненно. – Теперь все равно».
– Рынок уже закрыт, – буднично-уставшим тоном заметила Мира.
– И что? – не понял Ростошин, повернул голову и посмотрел на нее.
– Поехали в магазин.
– Зачем? – недоумевал Коля.
– Продукты купим, холодильник пустой, – объяснила тем же тоном Мира, продолжая смотреть на некрасивый сиреневый куст.
И подумала странной, отвлеченной мыслью:
«Почему кусты сирени так некрасиво переживают осень? Словно болеют и усыхают, а не торжественно опадают. Почему бывают такие растения, которые осенью становятся как короли с королевами, и такие, которые некрасиво, уродливо стареют?»
– Ты не поняла? – переспросил Коля. – Я вообще-то попрощаться пришел.
– Я ужасно голодная. А ты? – повернулась и посмотрела она на него.
– Не знаю, – растерянно протянул Ростошин с сомнением. – Я на нервах.
– Значит, голодный, – решила за него Мира и тяжело поднялась со скамейки. – Потом попрощаешься, Коля. Давай сначала поужинаем.
Они поужинали, и Коля остался у нее.
Посреди ночи, когда, обессиленный и счастливый, Ростошин заснул, как провалился в беспамятство, Мира поднялась с кровати и пошла в кухню.

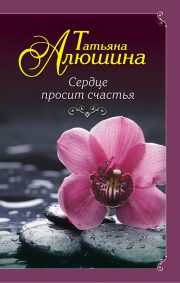
"Сердце просит счастья" отзывы
Отзывы читателей о книге "Сердце просит счастья". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Сердце просит счастья" друзьям в соцсетях.