Паоло огляделся. Вот ящик для игрушек Хлои, вот разбросанные по полу игрушки. Но там, где раньше стоял ее странный ударный инструмент, теперь валялись банки из-под пива и нестиранная одежда. Паоло поднял с пола пингвина Хлои и нажал кнопку на его синтетическом крыле. Но пингвин не работал.
— Где Наоко и ребенок?
Майкл плюхнулся на диван.
— В Осаке, — ответил он, не отводя взгляд от дурацкого развлекательного шоу.
Паоло схватил пульт и выключил телевизор.
— Они вернулись в Японию?
Майкл посмотрел на брата и задумчиво кивнул головой. Паоло сел с ним рядом и обнял так крепко, как только мог, — как тогда, когда они были еще подростками и поддерживали друг друга в трудную минуту.
— Я же говорил тебе, Майкл, — сказал Паоло. — Я предупреждал тебя, что такое может случиться.
— Но ведь у меня было не так много женщин! — заговорил Майкл срывающимся голосом. — У меня было всего на одну женщину больше, чем принято иметь в нашем обществе. Всего на одну! Я превысил норму всего на один пункт!
Внезапно почувствовав отвращение, Паоло выпустил брата из рук, схватил со стола стакан с вином и залпом выпил.
— Может, она еще вернется.
Майкл начал шарить на кофейном столике, приподнял пару заношенных спортивных брюк и достал, наконец, то, что искал. Документы. Он передал их Паоло. Там было письмо от адвоката, и холодные, официальные слова поплыли перед глазами Паоло. Неприемлемое поведение. Умеренное финансовое обеспечение. Заявление о разводе. Раздел семейного имущества.
— Мне жаль, Майкл!
«Но со мной такого никогда не случится, — подумал Паоло. — Такое случается только с людьми вроде моего братца».
— Нельзя зарекаться, — сказал Майкл, словно прочитав его мысли. — Наша жизнь совершенно не похожа на ту, которую вел отец. Тот каждую ночь проводил дома. Был счастлив с одной-единственной женщиной. Я знаю, ты считаешь меня плохим человеком.
— Я тебя люблю, ты, придурок!
— Но все равно, ты считаешь, что я плохой человек. А я не плохой, Паоло! Такое может случиться с каждым! Например, с тобой!
— Майкл… Мне надо было вернуться гораздо раньше… Я в шоке от того, что ты наделал, пока меня не было! Если бы ты мог продержаться чуть подольше!..
— Считай, что сегодня у меня выходной. — Он взял со стола дистанционный пульт управления и направил его на телевизор. Оттуда раздалась громкая музыка и дурацкий смех. — Просто сейчас бизнес совсем вялый.
— Отлично! Слушай, Майкл! Мои кредитки почти на нуле! Мы долго жили в Пекине, а там жизнь не намного дешевле, чем в Лондоне. Не дешевле, чем в Гонконге. Но в ближайшие несколько недель я вернусь вместе с Джессикой и ребенком. Ты уверен, что сможешь еще немного продержаться?
Майкл снова наполнил свой стакан.
— Без проблем, — ответил он. — Все самое худшее уже позади.
23
С челки маленькой Вей свешивался кукурузный чипс.
Его видел только Паоло. Джессика который день стояла в очереди в английском посольстве. Каждый день на этой неделе она отправлялась туда, держа в руках билетик с номером своей очереди, и каждый день, после нескольких часов ожидания, ей говорили, что для нее новостей нет. То есть, паспорт для маленькой Вей еще не готов.
Они жили в самом скромном номере пекинского «Шератона», и только Паоло посчастливилось увидеть кусочек кукурузного чипса, который свешивался с нестриженных волос маленькой девочки, и что-то в невинном совершенстве этого личика до невыразимой степени тронуло его сердце и разбудило такие чувства, которым он даже не мог дать имя.
В жизни его дочери нынешний день будет всего лишь моментом, каплей в море, которая скоро забудется навсегда — но только не в его жизни. Паоло будет помнить этот день до самой смерти, и особенно этот чипс на челочке маленькой Вей.
И Паоло вдруг понял, что теперь он стал совсем другим человеком, и все, что касалось его дочери, отныне и всегда будет обострять его восприятие жизни, напоминая о ее мимолетной красоте. Паоло стал отцом, и его сердце теперь перестало быть его собственностью.
Вей стала их законной дочерью. В подтверждение этого они получили документ на двух языках. Но в Пекине их задерживали (и мешали вернуться к их настоящей жизни) бесконечные очереди, твердокаменные бюрократы и долгие часы ожидания в английском посольстве. Поэтому их маленькая семья все еще находилась в подвешенном состоянии. Они устали отмеривать километры по площади Тяньаньмэнь, и Паоло большую часть времени проводил в номере отеля, вслушиваясь в мерное жужжание кондиционера.
Маленькая Вей начала елозить на своем высоком стульчике и внезапно разразилась криками протеста. Шепча что-что успокоительное, Паоло ловко вытер детское личико, поправил слюнявчик и поднял со стульчика на руки.
— Тебе пора бай-бай, моя дорогая.
С ребенком на руках он подошел к окну: в тридцати этажах под ним на забитых транспортом дорожных развязках гудели и трубили на разные лады машины, в воздухе висела пыль, сквозь которую свет фонарей казался расплывчатым и тусклым. Паоло задернул занавески. В темноте, глядя на него, поблескивали огромные глаза малышки Вей.
Паоло бережно положил ее на маленький столик и проверил пеленку. К счастью, ребенок не успел обделаться. Тогда Паоло переложил девочку в кроватку, включил музыкальный центр, помещавшийся под огромным плоским телеэкраном, и поставил единственный имевшийся у них диск с детской музыкой.
Они купили его в торговых рядах на улице Вечного Мира. Это было собрание детских песенок, которые, казалось, не изменились со времен детства Паоло. «Бобби Длинное Копье», «Инси-Винси паук», «Гав-гав, говорят собачки», «Раз, два, три, милашка, застегни мне пряжку». Казалось, их придумали столетия назад. Даже для Паоло упоминания о добрых курочках, нежных свинках, дамах и кавалерах и о галантных лягушках звучали доисторически. Он понятия не имел, как их воспримет маленькая Вей. Но стоило той услышать первые звуки «Бобби Длинное Копье», как она тут же успокаивалась и начинала слушать.
У Бобби родился ребенок.
Он поднял его из пеленок
На ручки, на ручки!
Под дубом могучим.
Мой папа из всех самый лучший!
Паоло лег на кровать и закрыл глаза. Интересно, когда были написаны эти странные стихи? Может быть, в ту же эпоху, когда Вальтер Скотт писал свои средневековые романы? У Паоло сложилось впечатление, что детские песенки существовали на свете всегда и будут до скончания веков передаваться из поколения в поколение. Еще он подумал: «Интересно, а вдруг дети Вей тоже будут слушать те же самые песенки, которые успокаивают ее сейчас в номере пекинской гостиницы «Шератон»?» С этой мыслью Паоло начал погружаться в сон. Следующее, что он помнил, — это свое внезапное пробуждение оттого, что в номер ураганом ворвалась Джессика, крича, и смеясь, и размахивая красным английским паспортом, в который была вклеена сделанная по всем бюрократическим правилам фотография ребенка, похожего на маленького Будду, с толстыми щечками, серьезным, непроницаемым лицом и глазами, взирающими на мир абсолютно прямо и спокойно.
Вся эта суета разбудила ребенка, и Джессика подхватила Вей на руки и покрывала поцелуями лицо, в то время как Паоло протирал глаза и пытался вспомнить, что он хотел показать жене. Потом внезапно вспомнил, но, оглянувшись на Вей, увидел, что кукурузный чипс уже исчез с челки девочки, исчез навеки, и показывать было нечего. И Паоло решил, что будет глупо пытаться объяснить жене те чувства, которые он испытал в ее отсутствие.
Поэтому он просто смотрел, как жена кружится по номеру с ребенком на руках, смеется и показывает малышке паспорт, и раз за разом читает в нем ее имя: Вей Джуэлл Бареси. Большинство приемных родителей дают китайским детям западные имена, но Джессика сочла, что это не обязательно. У малышки и так прекрасное имя.
«Сколько же национальностей и культур собралось вместе, чтобы устроить жизнь этой маленькой девочки», — думал Паоло, и от этой мысли его распирало от гордости.
«Моя дочка, мое будущее».
Место для толстых здесь было не предусмотрено.
В журнале работали исключительно супермодные молодые люди — или же люди постарше, но уже лет двадцать как привыкшие следовать самым последним веяниям моды. Все молодые были, как один, очень бледны, словно все краски сошли с их лиц после посещения тысячи ночных клубов, а те, кто постарше, были, наоборот, весьма странного, почти оранжевого цвета, что, по-видимому, подразумевало искусственный загар. А волосы, наоборот, были осветлены.
Но все — и молодые, и старые, — взирали на все характерным для супермодных людей оценивающим взглядом, и наблюдали за Кэт с крайним любопытством, когда она проходила мимо их столов, на восьмом месяце беременности, весящая на двадцать килограммов больше своего нормального веса и ужасно стесняющаяся собственной походки — этакого постоянного подрагивания и покачивания из стороны в сторону, которое, по ее мнению, придавало ей сходство с гигантским разжиревшим крабом. Усаживаясь в кресло напротив главного редактора, она вся съежилась, нервно задышала и засмущалась еще больше.
Все книги и журналы для беременных наперебой заверяли своих читательниц в том, что изменения, происходящие с телом в период вынашивания ребенка, — некий экзистенциальный, расширяющий человеческие возможности вселенский опыт. Взять хотя бы некоторые заголовки: «Поздравляем! Ты беременна!», или «Сорок незабываемых недель!», или «В твоем теле варится славный пудинг!» Кроме того, там постоянно напоминали о «новых сексуальных изгибах тела». Но Кэт не ощущала себя роскошной женщиной, а уж о сексуальных изгибах тела, на ее взгляд, вообще не могло быть и речи. Наоборот, впервые в жизни она чувствовала себя неповоротливой и неуклюжей. Расплывшейся, непривлекательной и старомодной. Самой себе она казалась ожиревшей тушей, случайно попавшей в группу здоровья, все члены которой с крайней озабоченностью следят за своим весом.

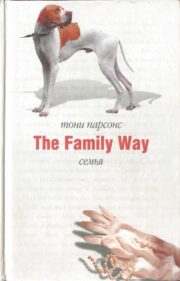
"Семья" отзывы
Отзывы читателей о книге "Семья". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Семья" друзьям в соцсетях.