Но ей нравилось думать, что сюда доносится шум морского прибоя с другой части острова — ее любимого места, где не было никаких роскошных отелей и куда забредали разве что редкие, самые храбрые туристы. Там огромные волны Атлантического океана бились о крутые скалы Батшебы и восточного берега Барбадосских островов.
Остров между двух морей. Ничего подобного ей раньше и не снилось. И Меган гадала, знают ли туристы с западного берега Барбадосских островов о дикой и притягательной красоте восточного побережья. Все, что говорилось в рекламных буклетах об этих местах, оказалось правдой: и белый песок, и дикие пальмы, и солнце круглый год. Но у этих мест была и своя оборотная сторона, так сказать, изнанка, совершенно неосвоенная, непредсказуемая и опасная, о которой ни слова не говорилось в рекламных буклетах. Изредка упоминания о ней можно было встретить в криминальных хрониках «Адвоката» или «Нэйшн», где рассказывалось о наркодельцах и убийствах, причем иногда по ночам с той стороны острова действительно слышалась стрельба. Сердце этих мест было диким.
Меган тосковала по сестрам; их отсутствие она ощущала ежедневно. Ей очень не хватало их телефонных звонков, традиционных обедов в Смитфилде, да и просто осознания, что они находятся где-то рядом, всего в нескольких остановках метро от нее. Ей очень не хватало тех часов, которые Джессика беззаветно посвящала Поппи. Ей не хватало ободряющего присутствия Кэт.
Сколько Меган себя помнила, она всегда была самодостаточной личностью: единственной, кто безболезненно перенес развод родителей, прекрасно закончившей школу и ставшей принцессой медицинского колледжа. Она ощущала себя то избалованным ребенком, то младшей сестрой, то, наконец, дипломированным врачом, рассудительным и компетентным. И только приехав за границу, она поняла, что ее представление о себе всегда обусловливалось безоговорочной поддержкой семьи. Но Меган знала, что делала. Она приехала сюда, чтобы начать новую жизнь, укрепить семью. Конечно, она предпочла бы, чтобы за ее ребенком ухаживали любящие родственники. Но раз уж любовь здесь не стояла на повестке дня, значит, в ход должны пойти доллары. Меган записала Поппи в Плантаторский детский клуб в Хоултауне и уже начала интервьюировать потенциальных нянь. Впервые в жизни ей не приходилось беспокоиться о деньгах.
Для нее здесь нашлось много работы. Весьма много. Правда, эта работа сильно отличалась от той, к которой привыкла Меган на своем старом месте в Лондоне. Возвращаясь мыслями к прошлому, она убеждалась в том, что лондонские пациенты были в своей массе жертвами нищеты. Ее новых пациентов на Барбадосе можно было назвать жертвами богатства.
Вчера, например, она посетила три разных отеля в Сан-Джеймсе. В одном из них ей пришлось лечить ребенка, ужаленного медузой; в другом — женщину, которая сломала себе нос, когда каталась на водных лыжах, а те перевернулись и уехали без нее; в третьем — пятидесятилетнего мужчину, который растянул коленные связки, когда решил заняться виндсерфингом и впервые в жизни встал на доску. Молодая жена этого мужчины (должно быть, вторая или третья) стояла тут же с маленьким ребенком на руках и наблюдала за тем, как Меган осматривает ее мужа и выписывает ему рецепты на обезболивающие препараты.
«Случай типичный, — думала Меган. — Весь год напролет они сидят перед мониторами компьютеров, а потом приезжают сюда и воображают себя крутыми». Да, здесь она без работы не останется.
В другие дни Меган лечила жертв солнечных ожогов, любителей погулять пешком до волдырей на пятках, любопытных туристов, которые дотронулись до ядовитого дерева манчиниль, растущего по всему побережью Сан-Джеймса, и, разумеется, ей попадалось огромное количество случаев, которые в Хокни носили название «необъяснимые пивные отравления».
Но стоило ей заподозрить у больных что-то серьезное, вроде инсульта или сердечного приступа, как таких больных тут же отправляли на скорой помощи прямо в госпиталь королевы Элизабеты в Бриджтауне. К разочарованию Меган, на Барбадосе не было тропических болезней: здесь их победили давным-давно. Таким образом, ее медицинская практика оказалась до смешного бесцветной по сравнению с той, которую женщина знала в прошлом.
В Хокни ей приходилось лечить героиновых наркоманов в период ломки, жертв поножовщины, хронических алкоголиков, лиц, страдающих ожирением и тех многочисленных жителей квартала Санни Вью, которые беспрерывно курили табак (и не только табак) и укуривались до смерти. По сравнению с тем, чем Меган занималась раньше, здесь было довольно скучно, и чаще всего приходилось оказывать помощь тем, на кого упал с пальмы кокосовый орех. У нее создавалось впечатление, что здесь никто не может по-настоящему заболеть, — и, соответственно, никто не собирается умирать, — и здешний праздник жизни будет длиться вечно.
Она почувствовала, как рядом заворочался Кирк, и замерла на кровати, притворившись, что спит, — на тот случай, если он проснется и захочет заняться любовью. С момента первой ночи на вечеринке и до сих пор им так и не удалось испытать всего блеска ощущений, которые сопутствовали сексу тогда.
Но Кирк не проснулся и к ней не потянулся, и поэтому Меган продолжала лежать в темноте, слушая завывания ветра и воображая, что слышит шум прибоя на другой стороне этого райского места.
Кэт зашла в лифт дома, где жила ее мать.
Прошло уже двадцать пять лет, а Кэт в каком-то смысле все еще чувствовала себя той веселой, неуклюжей одиннадцатилетней девочкой — сплошные ноги, руки и глаза, — которая смотрела на то, как ее мать делает перед зеркалом макияж и, улыбаясь самой себе, готовится разбить вдребезги их семейный корабль.
«Итак, ты моя большая девочка, Кэт. Джесси, конечно, тоже большая, но она слишком застенчива, а Меган все еще ребенок. Но ты — ты уже большая, и я знаю, что ты будешь храброй. Не правда ли, Кэт?»
Кэт неопределенно кивнула головой, а потом появилось такси с мужчиной на заднем сиденье и навсегда умчало из дома ее мать.
В последующие годы, когда Кэт с сестрами пережили все невзгоды и трудности, которые выпадают на долю детей из распавшихся семей, она на самом деле старалась — причем, старалась изо всех сил! — быть храброй. И когда лифт открылся на этаже, где жила мать, Кэт попыталась вновь ощутить в себе эту храбрость.
Но она боялась, что мать все еще способна причинить ей боль, и поэтому сильно сомневалась в том, сможет ли с достоинством выдержать предстоящее свидание.
Кэт позвонила в дверь, и перед ней появилось лицо Оливии.
— Принесла? — спросила та.
— Принесла.
Кэт вошла в квартиру, которая показалась ей гораздо меньше, чем тогда, когда она попыталась переехать сюда вместе с сестрами много лет назад. Но везде царили тот же порядок и чистота, что и раньше. Никакие грязные детские ручонки ни разу не касались аккуратно расставленных по полкам вещей. Везде стояли фотографии самой Оливии, молодой, красивой и улыбающейся, в компании гораздо более знаменитых людей. Когда-то эти фотографии казались Кэт шикарными, а теперь она видела в них лишь нечто трогательное и жалкое.
Романтические комедианты, банальные мачо из телевизионных постановок — их было так много, этих нещадно избиваемых копов, своенравных частных детективов или специальных агентов а-ля Джеймс Бонд, — и блеклые старлетки, чьи имена давно забыты. Неужели это самое большее, на что была способна ее мать? Неужели ради этого она бросила своих детей? Ради какого-то атлетичного красавчика на заднем сиденье автомобиля и ради мимолетной, кратковременной славы? И даже теперь Кэт была потрясена тем, что нигде в квартире Оливии не было фотографий ее дочерей. Но она тут же рассердилась на себя и подумала: «Да какое мне дело?»
Из соседней комнаты слышался шум, словно кто-то выполнял там домашнюю работу. В дверях показалось лицо темнокожей домработницы и тут же исчезло.
— У тебя будет ребенок, — сказала Оливия, зажигая сигарету.
— Да, — ответила Кэт, — но все равно, можешь курить.
— А я знаю его отца?
— Отец за кадром.
— О, дорогая! Он тебя бросил, не правда ли?
«Я сижу у нее две минуты, — подумала Кэт, — а мы уже готовы вцепиться друг другу в горло. Мне надо успокоиться, быть выше этого».
— Я не позволила ему слишком долго маячить перед носом, чтобы он мог меня бросить, — сказала она. Ее мать приподняла бровь. Интересно, что означает этот хорошо отрепетированный жест? И означает ли он вообще что-нибудь? — Помнишь, что ты мне когда-то говорила? — продолжала Кэт. — Родители гробят первую половину твоей жизни, а дети вторую.
— Неужели я такое говорила? — заквохтала Оливия, очень довольная собой. — Между прочим, это сущая правда.
— Да, ну а где теперь твои бывшие любовники? Мне кажется, именно они испоганили твою жизнь! Разумеется, с твоего согласия. И только в той мере, в какой ты сама позволила им это сделать.
Ее мать рассмеялась.
— Ты ведь не из числа охотниц за спермой, о которых я так много читала?
— Охотниц за спермой?
— Ты же не из числа тех женщин, которые терпят при себе мужчину до тех пор, пока тот не сделает им ребенка?
— Нет, почему же, я именно такая. Охотница за спермой. А вот, кстати, то, что я тебе принесла.
Кэт открыла сумку, достала оттуда пачку из-под сигарет и отдала матери. Оливия захлопнула дверь той комнаты, где работала уборщица, и только потом открыла пачку и исследовала ее содержимое: нечто, завернутое в серебряную фольгу. Постоянно оглядываясь на закрытую дверь, она развернула фольгу и увидела там внушительную дозу гашиша. Оливия сумрачно улыбнулась.
— Наверное, тебе было трудно это сделать, — сказала она дочери.
— Ничуть, — ответила Кэт. — Я годами имела дело с кухонным персоналом. Многие из них — личности весьма непростые. Так что труда мне это не составило.

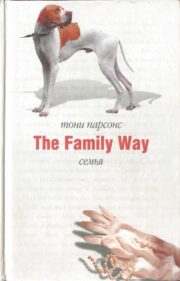
"Семья" отзывы
Отзывы читателей о книге "Семья". Читайте комментарии и мнения людей о произведении.
Понравилась книга? Поделитесь впечатлениями - оставьте Ваш отзыв и расскажите о книге "Семья" друзьям в соцсетях.